Михаил Ковсан
Повесть
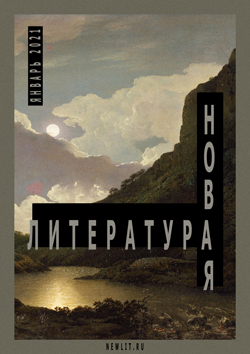 На чтение потребуется 1 час 15 минут | Цитата | Скачать в полном объёме: doc, fb2, rtf, txt, pdf

Путешествие было долгим и утомительным. В самолёте успел дважды поесть, дважды уснуть и дважды проснуться. Улетал в холод, в пальто. Приземлился с закатанными рукавами. Поздно вечером уставший от перелёта, видимо, не ясно объяснил таксисту, куда следует ехать, или тот понял так, как сам захотел, но вёз долго и привёз не туда, так что пришлось, втридорога заплатив за поездку, в другом такси до нужного вокзала, потеряв массу времени, добираться. На вокзале, почти пустом и страдающем от иссякшей дневной суетливости, размышляя о том, что в такое время на любом вокзале в любой точке мира обязательно найдётся подобный ему не слишком молодой человек, путешествующий без ясной цели, дожидаясь поезда, в ресторане заказал то ли обед, то ли ужин – принесли то, что во всех вокзальных ресторанах приносят, и теперь трясся на поезде, торчавшем на остановках больше, чем ехал – скорый укатил перед носом – трясся, пытаясь представить фантастический город, таинственную западню, сказочный капкан для чужаков, пытался представить умышленный город восторженно чувственной Афродитой, белопенно, изначальной вечностью поражая, восстающий из моря, пытался представить город, в котором был лет около пятидесяти назад. Полвека даже для истории кое-что, а для человека нередко вся жизнь. Через пару столиков от него в пустом ресторане сидел не по возрасту расфранчённый немолодой человек, явно выпивший лишнего, который, издеваясь над официантом, беспрерывно его подзывал, отпускал и снова, что-то надумав, манил его пальцем и даже покрикивал. В пустом огромном зале его визгливость между стенами оглушительно металась неприкаянным эхом, от которого хотелось бежать, только чтобы не слышать. Хотя торопиться ему было некуда, и лучше бы дожидаться поезда в ресторане, а не в вокзале, поняв, что пьяного крикуна не пересидит, расплатился и вышел. Чем ближе приближались к цели, пусть не слишком и самому ему ясной, тем поезд двигался медленней, и тем более был нетерпелив. В купе был один, так что его нетерпение никому не докучало. Только кажется, что по человеку, привыкшему скрывать свои чувства, не видно: любое малейшее движение руки, лишний взгляд на часы – всё что угодно нетерпение выдаёт. Что в пути расстегнулось, давно было застёгнуто, вытащенное на место своё возвратилось. Ещё задолго до конечной станции, куда по мере приближения всё сильнее стремился, запахло городом этим, самым странным на свете. Запахло водорослями, узкими проходами между домов с развешенным на верёвках бельём, тонкостью музыкальных пассажей, гниющими отбросами и ещё чем-то таким, чего в иных городах не бывает, как бы к этому не стремились. По отдельности эти запахи невыносимы, но вместе слагались в неповторимость терпкого безумия и гениальности тёмной, неповторимость, проникающую сквозь десятилетия и сквозь грохот, скрежетание, скрип, надрывное дребезжание старого поезда, которые стук колёс заглушал. В нём было нечто умиротворяющее, вселяющее спокойствие и уверенность: на месте жизнь не стоит, но и никуда не несётся, очертя голову, шею ломая. Просто длится абзац за абзацем, за страницей страница, за судьбою судьба. Вошли в вагон – вышли, другие вошли, которые доедут и выйдут, и за ними иные войдут. В окне медленно проплывали пустые платформы, сменявшиеся тёмными массами полей и деревьев, редкие жидкие огоньки. Паровозный гудок за долгое прошлое молчание отдувался. Представилось, как машинист, набрав полные лёгкие, выпускает воздух, тишину разрывая, и звук, вырвавшись на волю, летит по полям до самого моря, до которого ещё пилить и пилить. Вспомнил пляж, тогдашние купальные костюмы смешные, сегодня их бы сочли карнавальными. Попытался вспомнить лица тогдашних друзей, с которыми играл на пляже, но, как ни пытался, не вспомнил. Он лежит, они его засыпают, или он стоит на корточках и с другими засыпает кого-то. Вероятность того, что ещё живы, совершенно ничтожна. Статистика. Они, его тогдашние пляжные друзья, без лица, а он сам лицом с фотографии, сделанной не на пляже, на площади, у собора: в светлых бежевых брюках и роскошной матроске, купленной перед поездкой в Париже. Стоит прислонившись к ограде из белого камня. За спиной резвятся каменные голенькие невинные ангелочки. Лицо серьёзно, задумчиво, взгляд из-под длинных ресниц немного усталый, внутрь себя обращённый. Узколиц, узкогуб, узкотелесен. Узкая кисть свисает с ограды, и длинные пальцы тянутся вниз, словно струями воды опадая. Мать долго думала: покупать или нет, больно дорого, но он очень хотел, и она, ощутив, хотя и слова ей не сказал, поморщилась и заплатила. Вместе с другими покупками матроску принесли в номер, когда только вернулись, и он, схватив её, бросился в свою комнату и через минуту предстал во всём великолепии. Мать глянула и, подняв большой палец вверх, улыбнулась. Многословие в их семье и при жизни отца было не принято, а теперь и вовсе исчезло, в южной суетливой многоглагольности растворилось. После смерти отца многое изменилось. Мать – она была из семьи гораздо либеральней отцовской – стала одеваться свободней. Позволила ему волосы до плеч отрастить. На лёгкие шалости и невинные развлечения смотрела сквозь пальцы, на которых появилось больше колец, и родовых, доставшихся от матери, и подаренных ей отцом. Давно это было – мама, матроска и смерть отца, выстраивающиеся в такой странный ряд, как всё в его жизни, мировыми катаклизмами разорванной на куски, каждый из которых на другие совсем не похож, словно разные люди в разные времена их проживали. Во всех кусках почти до конца прожитой жизни завязывались и развязывались узлы, а когда долго-долго никак не развязывались и не разрубались – на это у него никогда не было сил – сами собой как-то стирались. Каждый кусок был удивительно похож на целую жизнь с рождением, взрослением, увяданием, смертью, может, именно эта похожесть и позволяла им соединяться в единую цепь, звенья которой были разного размера и цвета и друг на друга отчаянно не похожи. Словами, звуками, цветами и запахами этих не совсем ещё прожитых жизней он немыслимо дорожил и был безмерно счастлив, когда они его внезапно, вдруг настигали. Именно так: настигали, хотя от прошлого не убегал, но время, с его волей не сообразуясь, от них уносило. Против такого течения плыть невозможно. Это слово, такое обыденное и привычное, внезапно его поразило. Невозможно. На составляющие разобрал. Можно: юное, всё побеждающее, всех и вся оставляющее позади, по сторонам не оглядывающееся. Возможно: вероятность, одно из двух или из многого, всего и вся сомнительность и жажда бесплодная не дающейся несомненности. Ну, и последний префикс, последний кирпич: здание завершено, конечная станция – неизбежность. По вечерам между пальмами в кадках с блестяще зеленеющими разлапистыми ветвями – их протирали чем-то особым – на тесной эстраде небольшой оркестр – две скрипки, виолончель и фортепиано – наполнял благозвучностью пространство лобби, загромождённое разноязычностью, огромными вазами, претендующими на древнекитайское происхождение, дамскими туалетами и прочими обязательными для гостиниц средневысшего класса субстанциями. Во все стороны носились, иногда чуть повизгивающие и нетерпеливые: ja, yes, oui, sì, tak, да; nein, no, pas, no, nie, нет. Когда слышал «да» или «нет», у него стоически наперекор судьбе и истории в ушах звучала навевавшая светлую тоску мелодия великого полонеза. Всю жизнь ему вспоминались горячие ночные речи: в пансионе они все были ужасными патриотами, лихими ляхами в белых до пят рубахах ночных, мурлыкавшими, как умели, «Выход гладиаторов», ужасно по тому времени знаменитый, который непременно сменяла бравурность ещё более драгоценная.
Niemiec, Moskal nie osiędzie, Gdy jąwszy pałasza Hasłem wszystkich zgoda będzie I Ojczyzna nasza.
Они, стайка ночных белых призраков, пели сдавленным шёпотом, став в круг и взявшись за плечи, словно на невидимом эшафоте, приговорённые к мучительной смерти, пели, глаза их сверкали, как угли в ночи, пели, озираясь по сторонам, страшась и надеясь, что, услышав, к их кругу примкнут призраки воинов всех трёх великих восстаний, вооружённые палашами: ходила легенда, что здание пансиона восставшие использовали в качестве последнего убежища. И впрямь, разве могли хоть немец, хоть москаль не сбежать от палаша, когда Родина и согласие станут их общим гимном. Тогда уж всё, что отнято, острая сабля назад отберёт.
Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem.
А великая любовь Виниция и Лигии! А благородный Петроний, страдающий от гнусненького искусства распутнейшего и презреннейшего Нерона! Горящий языческий Рим, мир покоривший! Сколько раз он, написав насмешливое письмо сильному мира сего, российскому царю Николаю – kurwa mać, chuj ci w oko, ваше ходынское величество! – на роскошном пиру вскрывал себе вены, и рядом с ним умирала его жена, прекраснейшая и вернейшая из всех женщин в мире! Как мечтал он побывать в римской церкви Домине-Кво-Вадис, построенной на месте, где апостол Пётр, от гонений из Рима бежавший, встретил Христа и повернул обратно – на смерть! Что бы кто ни говорил, но Генрик Сенкевич – писатель великий, никакой Достоевский, Тургенев или Толстой и в подмётки ему не годятся. Он читал все романы величайшего из поляков. Славно было бы поглядеть, как в нероновом огне гибнут и Петербург и Москва! Снопы искр, чёрные угли, раскалённая земля – и пепелище. А быдлу – хлеба и зрелищ! С тех пор ничего из творений Сенкевича он не читал. Пошёл поглядеть фильм – еле высидел до конца. Длиннющее зрелище получилось! Тогда, читая, ему хотелось оторваться от книги, переиначить, увидеть события глазами другого героя, не того, кого главным выбрал писатель. Иногда он пытался даже говорить от имени своего избранника вслух, но когда пытался хоть что-нибудь записать, рука с пером в воздухе застывала беспомощно и бессильно. Однажды мать, застав его шепчущим, приложила ко лбу свои холодные губы, но, покачав головой, ничего не сказала. Тогда ещё не научился читать – он проглатывал. Сейчас читать разучился – медленно перечитывал. Общество, в отеле его окружавшее, сегодня бы назвал фарисействующим пиршеством злословия, кичливости и лицемерия, а тогда оно его вовсе не занимало. Блистали бриллианты, светились потаённым матовым светом вьющиеся вокруг шей жемчуга, таинственно зеленели изумруды, божественной тайной синели сапфиры. Речевые и возрастные доминанты менялись. Но почти никогда молодых здесь не бывало, обычная публика – отцы и матери семейств с детьми всех возрастов, от совсем нежного до почти взрослых, готовящихся к поступлению в университет или ожидающих женихов. Подростки поначалу дичились, затем знакомились, не раздумывая впустую, растрачивали пёстрые чувства свои, влюблялись – пухлые бронзовые и мраморные голенькие младенцы со всей силы луки натягивали – и развлекались нередко до слёз, стараясь из-под строгого надзора маменек, тётушек и гувернанток невзначай улизнуть. Взрослые, на крылатого чёрного юношу с погашенным факелом в руке внимания не обращая, пили аперитивы, заказывали на семейные праздники цветы и шампанское, мужчины листали газеты, следя за мировыми событиями, а дамы обсуждали мир ближний, плотно их самих окружающий. Были, понятно, исключения из мужского или дамского ряда, на которые несколько косо посматривали, а встретившись, сторонились. Всё было чинно, чопорно, под стать чёрным одеждам – белая сорочка, белый жилет, белая бабочка – кавалеров всех возрастов и персонала, который, несмотря на одежду, не отличимую от платья гостей, узнавался по жестам, пластике тел, готовых к исполнению поручений и прочим деталям, частенько едва лишь заметным. В самолёте в полудрёме всё это отчётливо представлялось, будто между ним сегодняшним и давненько вчерашним, всё это видящим, было не полвека, а несколько месяцев, довольно пустых, не сумевших вытеснить из памяти события, лица, предметы, даже запахи роз, растущих в огромных кадках у входа в величественный Гранд отель, именно такое редкое для гостиницы имя носило их с матерью тогдашнее пристанище летнее. Сезон разгорался. Постояльцы часто целыми кланами день-деньской прибывали. Их багаж ящики Пандоры напоминал – кто знает, какое ошеломление произведёт содержимое огромных бесчисленных чемоданов и невероятной вместимости сундуков. С каким наслаждением в ожидании счастья юные бело-розово-воздушные создания – в угол, на нос, на предмет – порхали вокруг багажа, обнадёженные предсказанием разноцветного попугая (если прибыли морем) или обезьянки лукаво-игривой (если по суше), вытащенного из полных прекрасных надежд расшитой бисером сумки шарманщика. Одетые совершенно по-взрослому юноши на розоватую белопенность сестёр и/или случайных знакомок бросали слегка ироничные взгляды, втайне надеясь купить и себе предсказание, разумеется, когда никто их не видит. В его комнате в окне море весело переливалось цветами. Белые парусники и чёрные дымы пароходов. Юркие вёсельные шлюпки и неуклюжие катера паровые. И на стене оно, море, поблекшее от времени, безлюдно висело. Раз взглянул – и стало пятном, обязательным и привычным. Большую часть комнаты занимала кровать, на которой – тотчас попробовал – и поперёк помещался. Перед тем, как к ужину переодеться, решил проверить её на пружинность. Матрас оказался достаточно твёрд, и прыгать на нём было совершенно не интересно. За полвека столько всего произошло, столько случилось: катастрофы, смены стран и континентов, смерти, любови, предательства, но сейчас, когда жизнь приближалась к концу, это всё стушевалось, и проступила, словно проявившаяся фотография или высыхающая переводная картинка, гостиница на берегу, нависающая над пляжем с рядами кабинок, перед которыми на дощатых помостах стояли шезлонги, гостиница с её дамскими шляпками десятков фасонов и сотен оттенков. Шляпки неистово соревновались, мерялись объёмом, высотой, а главное – вычурностью: простота была не в фаворе. Мода на неё придёт, но тогда, когда дамские шляпки повыведутся, став анахронизмом, иронической репликой на изысканность, которую человечество утратило, впав в простоту, как в великолепную ересь, из которой выбраться суждено лишь немногим. Да и о какой изысканности можно говорить на высоте десяти километров над уровнем моря, откуда землю, покрытую облаками, совершенно не видно. Всё отсюда казалось милым, нелепым, смешным, а сам себе он казался дедушкой современного тинейджера-внука, которому нелегко понять чувства когдатошнего подростка, до той поездки знавшего только фольварк, старинный родовой дом на окраине города, с течением времени приблизившегося к их родовому гнезду, да пансион, в котором провёл несколько лет, не выходя за его стены, лишь на праздники и каникулы домой возвращаясь. В его комнате, из поколения в поколение наследнику назначавшейся, над узкой кроватью висел тяжёлый почерневший от времени крест. В пансионе похожий крест был общим на весь дортуар, висел он над входом. Молитвенник, которым пользовался вне дома, был новый, подаренный отцом и матерью на конфирмацию. А дома молился по прадедовскому, несмотря на возраст, сохранившемуся прекрасно. С этим молитвенником прадед отправлялся в тот же пансион, куда отдали и его, где провели свои юные годы и дед, и отец. Всё было за то, что им продолжится род, как было раньше. Но история стала чудить, понесла, как лошадь, испугавшаяся чего-то, и удержаться в седле очень мало кому получилось. Большинство история, недреманное око своё жутким пластырем залепив, с прежних мест посрывала, по миру отправила, заставила родной язык позабыть, в лучшем случае, с трудом вспоминая слова, на нём говорить. Эта сумасшедшая история, словно бешеный ураган, по чужестранью, вырвав с корнем, людей разнесла. Некогда в доме, в котором рождался, человек умирал. Теперь редко кто мог перечислить места, в которых жить приходилось, порой даже все города и страны с трудом вспоминались. Представил себе высоту, на которой летит самолёт, и захотелось наполнить лёгкие прошлым, нырнуть и вынырнуть на морском берегу в купальном костюме, который тогда был предметом совсем не простых переживаний. Ему сегодняшнему, почти напрочь прошлое позабывшему, не понять ощущений воспитанника чёрных до полу сутан, который вдруг оказывается на морском берегу, на пляже перед сотнями глаз любопытствующих в пляжном костюме совершенно обнажённым и совсем беззащитным. Нежное солнце. Тёплое море. Ласковый ветерок. Рай был переполнен. Потому изгнание стало массовым.
Поезд затормозил, и через минуту в поле зрения в коридоре возникла дорожная сумка, лицо моложе его на один мировой катаклизм в его сторону повернулось и двинулось в поисках пустого купе, собственной отъединённости, персонального, ни с кем не разделяемого одиночества. Чего-чего, а одиночества в его жизни было с избытком, отъединённости самой разнообразной: и в тёплом климате, и в умеренном, и в холодном, и просто лютом, в городах одноэтажных и небоскрёбных, безвестных и у всех на слуху. И не выбирал ведь! Так получалось. Так складывались обстоятельства, выталкивающие его туда, где поначалу казалось спокойней, но через некоторое время становилось невыносимо. Вот ещё такое словечко. Носимо – то, что можно спокойно, не слишком напрягаясь, нести. Выносимо – ничего, перетерпится, перемелется – будет мука́, главное – чтобы не му́ка, тогда уж невыносимо. Игра в слова с первого куска жизни – дело привычное. Там, куда неспешно везёт его поезд, всякие словесные забавы, шарады и прочее были едва ли не единственным, кроме чтения, занятием в дождливые дни, когда некуда податься и от себя некуда деться. Друзей у него не было – пляжные вовсе не в счёт – да и где в дождь с ними встречаться? В гостинице невозможно, в других местах невыносимо. Каждое порознь из этих словечек тоску неимоверную нагоняет, а когда вместе – совсем от них тошно. Вот и решил от них отвязаться. Встал, подошёл в коридоре к окну – присмотреться, может, что интересное из прошлого и увидит. Знаки из будущего его не интересовали: были не для него – для других. Всматривался в темноту, неспешно сквозящую за приоткрытым окном, силясь увидеть ангельские локоны белокурые, ниспадающие на неширокие плечи, обрамляющие бледное лицо, не успевшее загореть: прямой римский нос, огромные голубые глаза, не помещающиеся в отведенном на лице узком пространстве, налитые красной сочностью губы. С тех пор нос год от году истончался, ноздри расширились, стремясь учуять дым пока ещё далёких пожаров; голубизна глаз, понятно, выцветала, тускнела; губы сжимались, бледнея. Попытался свои ощущения сформулировать. И получилось. Такое бывало нечасто. Чем больше у человека будущего, тем меньше прошлого. И наоборот. Очень точно. И очень банально. Наверное, любая формула способна, донельзя ощущение опрощая и огрубляя, ухватить лишь банальность, которую обратно в ощущение конвертировать невозможно. А если формула не банальна? Тогда не формула вовсе. Что же? Афоризм? Парадокс? Слова, в сеть связавшись, истину уловили – на волю не выпустят, ни за что не отпустят! А его воспоминания на волю отпустят, их уже больше его самого, новому больше нет места? Вот и сейчас в этом купе едет назад, чтобы снова увидеть тёмную фигуру на пляже, из кресла неуклюжей и неподвижной тенью назад уползающую, распластавшуюся на песке и впитавшуюся в него. Песок золотистый, сверкающий, лёгкий, весёлый. Тень чёрная, мутная, тяжёлая и печальная. Сейчас время сидения кончится, фигура встанет, двинется к выходу, оставляя за собой вмятину в кресле и тень на песке. Он быстро вскакивает, прекращая вместе со всеми кого-то закапывать, устремляется за тёмной фигурой: мой господин, вы тень свою на песке позабыли! Бежит за ним, кричит ему в спину, но тот упрямо идёт, не слыша ни крика, ни шелеста волн, ни раскатов, грозу предвещающих. Что делать? Подобрать забытую тень? Спросить, что с тенью делать? Кого? Своих пляжных друзей? Им не до тени – соревнование в беге затеяли. Спросить мать? Приложит губы ко лбу: не перегрелся ли? Подойти к пляжному сторожу, тот за всё на пляже ответчик? Как раз прибирает кресло с вмятиной, оставшейся от тёмной фигуры, которая тем временем скрылась. Тень? Какая тень, мальчик? Вы что, юноша, решили надо мной посмеяться?! Позвольте, где ваши родители? Ах, вы один. Такого быть не может никак. Несовершеннолетние без родителей или лиц их заменяющих на пляж не допускаются. Позвольте немедленно… Принять душ? Переодеться? Вы что это задумали? Какой душ? Извольте немедленно убираться вместе с издевательской тенью. Иначе вы не оставите иного выхода, как пригласить полицейского. На пристани постоянно двое полицейских дежурили. Когда прибывал пароход, и по трапу пассажиры спускались, они тщательно всматривались, будто пытались взглядом выловить воров, грабителей, насильников и прочих преступников. И пассажиры, проходя мимо них, не то чтобы нервничали, но как-то съёживались, слегка голову в плечи вбирали. Наверное, это у всех людей, никогда не властвовавших ни над кем, хотя у многих была прислуга, но с той по нынешним временам шутки плохи, чуть не по нраву – пожалуйста, госпожа, меня рассчитайте, а то – шмыг за дверь и в полицию. Чем же тогда кончилось с тенью? Не мог же он её просто так бросить. Даже сейчас бы трижды подумал, а тогда в возрасте юном и нежном наверняка бросить не мог. Как же мог он забыть, что с тенью случилось? Надо вспомнить. Надо просто-напросто тщательно в памяти покопаться. Необходимо ворошить и раздувать, хотя так быстрей дотла догорит. Хорошо бы вспомнить того господина, хоть что-нибудь, пусть не лицо, не одежду, хотя бы походку: шёл прямо или немного петлял, шёл ровно или покачивался? Или же ковылял, опираясь на палку? Была палка? Конечно, была! Тогда все господа его возраста и положения щеголяли палками с бронзовыми набалдашниками в виде льва – это, конечно, банально, или какого-нибудь мифического существа: тут фантазия могла разгуляться во всю неуёмную прыть. Кстати, почему был один? А где была его вайф, или мадам, нет, скорей всего, фрау. Тогда в парижском магазине с дорогущей матроской до тени было ещё далеко. Матроска составляла едва ли не половину всей суммы, которую мать заплатила. А накупили полмагазина: и бельё, и три пары брюк, и обувь, и два купальных костюма: сине-белый с продольными полосами и такой же бело-зелёный. Одежды после пансиона у него почти не было. Не появишься ведь на улице в чёрном, которое велено было носить. Когда мать, приехавшая забрать его, увидела в этом, чуть ли не руками всплеснула, хотя, понятно, сдержалась. Такие там были порядки: и воспитанники, и воспитатели, и вся прислуга исключительно в чёрном. Почему он задним числом так решил? Почему именно фрау? Подумалось – и решил. Нет объяснения. Объяснить всё невозможно. Только попробуешь, тёмная фигура исчезнет вместе с тенью, оставленной на произвол судьбы, без присмотра, а с ней кресло с отметиной, сторож и пляж, включая его самого. Прибыли на пароходе, а как уезжали, точнее, бежали? Глядя в тёмное окно в пустом коридоре, пытался вспомнить, но безуспешно. Промелькнуло простенькое, чёрно-белое словечко, даже на язык соскользнуло. Чуть не произнёс. Пустой вагон, если не считать того с сумкой, если б услышал, наверняка весьма и весьма удивился. Может быть, даже сильнее затрясся. От смеха. Тогда они с матерью очень много смеялись. Оба – после смерти отца не прошло и полгода – как тогда говорили, смеялись нервически. Описать или изобразить этот смех он, пожалуй, не смог бы. Но когда на страницах «нервически» попадалось, вспоминал старый со времён ренессансных отель, очень странный и чопорный, их двухкомнатный номер – мамина комната побольше и днём служила гостиной – и смех их нервический, вылетавший в окно в тёплый день и застревавший в четырёх стенах в пасмурный, дождливый, ненастный. Так мать всегда говорила, для скверного дня прилагательных не жалея. И денег на него не жалела. Хотя обстоятельства складывались так, что тратить надо было всё осторожней. Поезд, запущенный отцом, двигался по проложенным рельсам, но кто знает, что впереди, то ли промежуточная станция, то ли вдруг, внезапно конечная, тупиковая замаячит. Тогда, когда до тупиковой, конечной было столь радостно, весело далеко, всё ощущал отчётливо, ясно, порой даже резко, но перевести в слова не умел. А теперь, когда слова приходили легко, всё ощущалось неясно, размыто, не отчётливо, словно в тумане, хотя у входа в ресторан горело множество ламп, и было очень светло даже в углу, откуда на него смотрел немолодой господин, у которого на коленях лежала газета. В том же углу, как раз напротив этого господина, опустив голову и на господина не глядя, вытаскивал занозу кудрявый обнажённый мраморный мальчик. Тогда во всех отелях, на некую изысканность претендовавших, было немало и старых и новых копий великих произведений искусства. Уже в дверях вдруг, без причины он обернулся, будто словленный взглядом этого немолодого уже господина, почти среднего роста, высоколобого, с бритым лицом и седыми зачёсанными назад волосами. Лёгкий профиль, тяжёлый анфас. Это сейчас, вспоминая, он легко, словно пасту из тюбика, выдавливает слова. А тогда всё было одновременно, вместе и вдруг. И главное – огромная голова под постоянной соломенной шляпой на пляже, с тщательно надетым и пригнанным выражением величественного достоинства на лице, голова, которая как бы существовала сама по себе, и глаза, из-за очков с золотыми дужками страдальчески глядевшими на него. Первое, что подумалось: он его знает. Но где видел, и что требует этот взгляд, как будто держащий на привязи и не дающий войти, понять он не мог. Уловил, как господин перевёл взгляд с мальчика на него, сравнивая мраморные кудри с его длинными волосами, спадающими на плечи. За это его дразнили Авессаломом, постоянно останавливая дурацким вопросом: «Как поживает отец твой Давид? Скоро на него ты восстанешь?». И не надоедало же им. Он тогда себя остановил, будто ущипнул, убеждаясь: проснулся. Взгляд? Неудивительно! Здесь самый воздух взглядами насквозь пронизан! Нет. Всё-таки не такой, от иных слишком отличный. Взгляд незнакомца, скользнувший из угла, от обнажённого мальчика на него, притянув, невероятно смутил. Но долго тушеваться ему не пришлось. Мать обернулась, он уловил удивление, и через пару минут, когда официант принял заказ, она спросила, что его задержало. Что-то ответил. Едва заметно кивнула, движением бровей показав на салфетку. Через минуту официант откупоривал бутылку. Пригубив, мать подбородок в знак согласия слегка опустила. Официант, глядя на мать, и над его бокалом бутылку занёс и, уловив согласие, налил четверть бокала, после чего, вновь глянув на мать, ближе к ней поставил бутылку. На этом общение взглядами завершилось. Обедали молча. К концу обеда он забыл и магический взгляд, и свои непонятные ощущения: через столик от них сидело семейство с двумя дочерями, одна старше его, другая, похоже, что младше, и он всё время глазел на них, пока не получил замечание: мать произнесла его имя акцентированно вопросительно. Тот взгляд из угла был для него чем-то новым, совсем не изведанным. Нет, это не был рогожинский взгляд – он как раз «Идиота» читал – тавро выжигающий, прожигающий насквозь, испепеляющий. Скорей этот взгляд осторожно, очень нежно, едва прикасаясь, ласкал, готовый в любой миг отпрянуть, устраниться, исчезнуть. От рогожинского взгляда не убежать, не скрыться, не затеряться в толпе. А этот взгляд невозможно забыть, в тоскливую минуту хочется найти, отыскать, к нему прислониться: может быть, поможет, может быть, полегчает. Это был взгляд последней надежды, исчезающий, отчаянный, безнадёжный. Вот так, вспоминая, пытался множеством слов передать то, что тогда в единый миг, словно волна, нахлынуло и отпрянуло, унося, словно гальку, то, что станет словами. Оглянувшись, будто в купе мог кто-то незаметно войти, встал против крошечного полутёмного зеркала и попробовал взгляд этот ищущий, робкий примерить. Не получалось. По-разному, анфас и в профиль смотрел в зеркало, в ответ получая то пучеглазое седое чудовище, то забитого старца, похожего на того из угла, рядом с вытаскивающим занозу, но без его взгляда, который пытался он повторить. Поняв, что не выходит, и ещё раз оглянувшись, попробовал идти от противного: начать с прожигающего рогожинского, чтобы сделать наоборот. Конечно, ничего из этого тоже не вышло, да и выйти никак не могло: чтобы изобразить чужое, надо быть великим актёром, а он не был даже посредственным. У человека из угла с мальчиком, увлечённым занозой, взгляд был прямой и открытый. А у него получался кривовато змеящийся исподлобья. Видимо, его призвание глядеть не на других, а в себя, в лучшем случае опустив голову, мраморно застывая. Эти рассуждения, а главное, глупые упражнения изрядно его утомили. Вернулся на место совсем обессиленным, будто сизифово камни, до смерти уставши, таскал. Усталость от работы, приносящей какой-никакой результат, хоть малую пользу, разительно отличается от усталости зряшной после труда бессмысленного и бесполезного, такого, как переписывание латинских авторов – наказания за мальчишеские грехи, которым их в пансионе в изобилии награждали.
Многочасовое путешествие и нелёгкие попытки из прошлого выудить краски, запахи, ощущения его утомили. Поезд пошёл порезвей, колёса застучали проворней, слаженней и веселее. Прислонившись к спинке дивана, вначале всматривался в окно, пытаясь что-либо, кроме огоньков, различить, а затем задремал. Подпрыгивая в такт стуку колёс, он бежал в Рим предупредить его жителей о врагах. Бежал, и кто-то в спину ему кричал, остерегая. Мог разобрать лишь своё имя. Оно за ним и неслось: «Марций! Мар-ций!», вначале эхом сменившись, а затем и вовсе угасло. Бежал, по пути развлекая себя воспоминаниями о своём пастушеском житье-бытье, с которым, думалось, не очень надолго расстался. Затем догнал голод, он от него отвязался, заметив на повороте дороги кривую сосну, о которой стал думать безостановочно, только о ней, и голод отстал, пропал в подступающей темноте, которая его обступила и никуда исчезать не собиралась. В темноте наткнулся на острую колючку, которую во что бы то ни стало надо бы вытащить, иначе не добежать. Сел на камень и мучительно долго её вынимал. Хорошо, что не так уж много пути оставалось, из последних сил добежал, успел обессиленный сказать об опасности и на ступенях Капитолия умер. Судя по скульптуре, Марций, добро что латинянин, по-гречески босым и обнажённым бежал. Может быть, так удобней? Быстрее? Или дело привычки? Ко всему новому приходится привыкать. Увидев себя в зеркале первый раз в пляжном, решил: на пляж ни ногой. Одетым туда не пойдёшь, а в этом идти – голым и разноцветным. После ужина они с матерью молча прошлись вдоль берега и, поднявшись в номер, расстались. Поцеловал ей на прощание руку, а она его в лоб. Наскоро умывшись, взял было книгу, но глаза слипались, и через минуту он спал. Обычно долго ворочался, а тут в первый же день на непривычном месте заснул, хотя сон и был беспокойным. Снилось, что выходит из кабинки на пляже, переодевшись в один из недавно купленных пляжных костюмов, и весь пляж от стариков до детей поворачивается к нему: смотрят пристально, пытаясь содрать с него этот костюм, особенно усердствуя там, внизу, где всё сильней жмёт, и надо бы поправить, но боится привлечь ещё больше внимания, чувствуя, как постепенно под взглядами ткань растворяется и исчезает, оставляя его бледное голое тело на расправу тем мерзостным взглядам, за ними следуют гнусные смешки и призывные крики раздеть этого юношу, явившегося бог знает откуда лакомиться нашим морем прекрасным, чудесным пляжем и ласковым солнцем, которое особенно по утрам так нежно греет тела. Эти крики на мгновение отвлекают от ужаса, в который погрузился, едва покинув кабинку. В десятках взглядов он различил тот вечерний, вчерашний из угла рядом с Марцием, бегущим, занозящим ногу и умирающим. Этот взгляд проворнее и тяжелее других, этот взгляд за голову его ухватил, пригнул её книзу, затем умудрился, не оставляя голову, пошарить у него на груди, под мышками пощекотать и спуститься по животу туда, где тесно уже нестерпимо, и сдавить так, что он всем телом, будто в ознобе, дрожит. Проснулся, с ужасом вспоминая, что это было, и продолжал дрожать, пока не 3, что ничего необычного не произошло: такое и в пансионе случалось, и он давно знал, что это в его возрасте совершенно нормально. Умылся, переменил ночную рубашку и лёг досыпать под тихий шум волн, в приоткрытое окно проникающий. Разбудил голос матери. Встала рано и решила пройтись перед завтраком. Сказала вставать, привести себя в порядок и к завтраку – через двадцать минут – не опаздывать. После её ухода ещё повалялся, и, спохватившись, сорвался с постели, наспех умылся, оделся и побежал в ресторан, на ровном месте споткнувшись у двери о быстрый взгляд, его поджидающий. Хозяин взгляда рассматривал почту, которую подал лакей, державший в руке форменную фуражку, то ли ожидая каких-либо поручений, то ли чаевых, хотя в таких отелях, как этот, подобное было не принято. Стоили номера не так уж и мало, включая негласное правило не беспокоить постояльцев по пустякам. Пока добирался до столика, за которым с лёгким неудовольствием, написанным на лице, ждала мать, эти три взгляда: вчерашний вечерний, нынешний утренний и страшный ночной, победивший все остальные жадные пляжные взгляды, все эти три взгляда сложились в единый тягучий, тянущий его голову книзу и проникающий внутрь. Было не по себе. Хотелось броситься назад, вырвать из рук хозяина взгляда конверты с письмами, изорвать, швырнув бумажные ошмётки в лицо, и потребовать удовлетворения, на шести шагах, до результата, извинения не принимаются. Мать безумный бег мыслей оборвала, что-то спросив, он не понял, но согласно кивнул, удовлетворившись, она повернулась к официанту. Придя немного в себя, понял: мать завтрак уже заказала и только дожидалась его, чтобы заказ подтвердить. Что-то ел, что-то пил, не разбирая, пытаясь понять, откуда этот взгляд взялся, выдумывая самые невероятные истории, которые, едучи в трясучем вагоне, пытался вспомнить, но не получалось. Истории наверняка были книжные, что-то майн-ридовское, вальтер-скоттовское, или нет, пожалуй, нечто погуще, вроде Виктора Гюго, хотя, помнится, к тому времени он читал и другое, рогожинский взгляд из того времени в его сознании поселился. Этот взгляд никак не укладывался в прокрустово ложе его тогдашних понятий: красиво или же некрасиво, что означало лишь: хорошо или плохо. Чтобы с заблуждением этим расстаться, впереди была жизнь, которая теперь позади. Хотя… Впереди-позади – вещь тоже не безусловная. Всё в жизни зыбко. Вот в станционных огнях платформа и унылое здание назад сквозь туман просочились. Не остановились – проехали. Хоть медленно, но вперёд. Всё к цели ближе. Вот что более всего его тогда занимало. Её величество цель! Бабочкой у огня кружил вокруг неведомой, невидимой цели жизни, плохо осмысляемого своего болезненного бытия. То приближался к огню, то, обжёгшись, отпрядывал, не имея никого, с кем мог бы об этом перемолвиться словом единым. Говорить об этом было подобно тому, что рассказывать о взгляде, вчерашнем вечернем и нынешнем утреннем, который в единый узел тугой стягивал взгляд ночной нестерпимый. Был ли хозяин вчерашнего взгляда в точности и хозяином взгляда сегодняшнего? Поразмыслив, пришёл к выводу, что однозначно на этот вопрос ответить никак невозможно. Ведь и вчерашний, и нынешний достигали его с приличного расстояния, их хозяев видел он мельком, ни времени, ни желания всматриваться в эти чёрные фигуры не было никакого. К тому же утренний взгляд курил папиросу, над ним вился сизоватый дымок, а вчерашний ничего не курил. Конечно, и это не доказательство того, что взгляды разных хозяев. Но всё же. Успокаивая себя, спросил: «С чего это ты так всполошился? Что, на тебя раньше никогда не смотрели? Или не знаешь, что ты красив? Тонок и нежен? С прекрасным лицом и светлыми локонами, спадающими на плечи?». Эта ещё детская привычка обращаться к себе до сих пор сохранилась. И он, ехидничая, спросил: «Куда всё это делось? В чём растворилось?». Спросил – не ответил: вопрос самодостаточен, к чему мучиться над ответом. Подумалось: может, именно привычка задавать обескураживающие вопросы уберегла, не впал в модный в то время, расцветающий разными цветами всепоглощающий нарциссизм. Этот город очень подходил этому времени, этой эпохе, город царственных каменных львов, бежавших из оскудевших месопотамских дворцов и здесь на службу красоте и величию поступивших. Они скалились, пугая прохожих, добродушно рычали, поторапливая полуночников, равнодушно взирали на прославленных горожан и с любопытством – на иностранцев. Одни никого не подпускали к себе, другие делали исключение для детей, любивших гриву трепать и класть в пасть ручонки. Без них город был совершенно немыслим, а они без города никому не нужны. Редко две сущности так друг другу подходят, в гармоничной неразрывности единясь. Блистательная эпоха сверкала! Переливалась красками, наполняясь музыкой, заглушающей голоса растущих страхов и апокалиптически жутких видений. Эпоха укорачивала дамские подолы, обнажала руки, снимала пиджаки и весело суетилась вокруг великолепных кумиров, которых любила пылко, беззастенчиво и очень не долго. Это сейчас, всматриваясь в чернеющее окно, он видел эпоху такой. Тогда никакой эпохи не видел: было не до неё. Тяжёлый взгляд следил за ним, а он не упускал из поля зрения двух сестёр всегда не в одинаковых платьях, но очень похожих. Если одна была в голубоватом, то другая в такого же покроя слегка розоватом. Они в ресторане располагались недалеко от их столика, и он нередко застывал с вилкой или ложкой в руке, засматриваясь особенно на младшую, пока мать его беззастенчивость не прерывала каким-то вопросом или, когда это не помогало, прямым замечанием, чего делать совсем не любила, но иногда, как коротко объясняла, нечего не поделаешь, приходится делать неприятно необходимое. Эту младшую он спасал не раз и не два из рук бандитов, требовавших выкуп, а таких денег не было ни у кого, из рук пиратов, требовавших того же, из щупалец марсиан, которые в то время начали появляться на страницах модных журналов, чиня различные козни наивным и добрым землянам, ещё не успевшим к тому времени мировую войну учинить. У землян всё было ещё впереди, а покуда эпоха блистала, сталелитейные заводы производили в огромном количестве сталь, необходимую для производства оружия, химические предприятия упорно трудились, созидая газы, несущие смерть от удушья. Одёрнул себя. Поспокойней! На полтора градуса ниже. Тридцать шесть и шесть всё равно не получится, но тридцать семь с чем-то – уже можно двигаться к цели, до которой осталось не так уж и долго трястись в этом вагоне, построенном едва ли не в ту блистательную эпоху, блёстки которой так дороги ему и сегодня, полвека спустя.
На берег он являлся каждое утро. Многие часы просиживал, штанины закатав до колен, приближался к воде осторожно, будто страшась, что море, едва хоть мизинцем коснётся, схватит и унесёт. Может, купального костюма не было у него? Или, что скорее всего, просто боялся предстать обнажённым в этом купальном костюме. И сам поначалу очень стеснялся, хотя ему-то стыдиться тела своего не приходилось. На секунду представил себя одетым, сидящим на берегу в прекраснейший жаркий день, то ли предчувствуя гром среди ясного неба, то ли ожидая у моря погоды, и – стало страшно. Вздрогнул, поморщился, живот закрутило, но кто-то позвал – обернулся, опомнился, всё по-прежнему понеслось, засверкало и закружило. Мальчики-девочки куда-то бежали, и он с ними бежал. Они вдруг останавливались, не пытаясь понять почему, и он, как вкопанный, стоял, вокруг озираясь. Стрелы Эрота летали на берегу в бесчисленном множестве, но мальчики-девочки, поражённые, не видели их, не понимали – только чувствовали: что-то случилось, и, чтобы долго мыслями себя не терзать, срывались с места с единственной целью – бежать. День был ветреный, они с матерью едва вдоль пляжа прошлись и целый день, читая и спускаясь поесть, в номере просидели. Взгляд отвязался, исчез, видимо, сидя в номере, письмами развлекался. На следующий день, переменившись, погода была совершенно прекрасной. После завтрака спустились на пляж, заняли кабинку почти рядом со входом. Он был на море в первый раз в жизни. Поначалу тяжело было представить, как передвигать своё тело, стеснённое удушающей наготой. Долго удивлённо слизывал с кожи рук солёную горьковатость. И – с головой в воду: нацепил пляжный костюм и полуголым вышел, подставляясь под ненасытные взгляды, о которых – о чудо! – через несколько минут позабыл, заведя новых друзей, которые сами его отыскали, на разных языках затараторив, больше всего по-французски. Купались, выдёргиваемые из моря настойчивыми голосами, выкрывающими разные имена, раз от разу всё более строгими, друг за другом гонялись, строили замок, позабыв о купании. Только одно немного томило: две сестры держались поодаль, в общих играх участия не принимая. Но и о них вспоминал не так уж и часто, увлечённый игрой. И так до момента, когда вдруг почувствовал взгляд. Вздрогнул и оглянулся: почудилось, и продолжал веселиться, особенно подружившись с милым парнем, который тоже несколько лет провёл в пансионе, и которого, как и его, в начале лета забрали, одели по-новому: весь с головы до ног чёрный и он по мановению волшебной палочки вдруг стал цветным и в пляжном цветастом костюме почти совсем голым, что его, жутко сперва волновавшее, теперь совсем не смущало: все так были одеты. В этот день нашёл душу родную – и потерял. Это был последний пляж, последний гостиничный день, вечером его семья уезжала. Эта встреча, как оказалось, стала знаком судьбы. С тех пор, едва найдя, он тотчас терял. Сколько раз пытался судьбу пересилить и даже перехитрить. Ни разу не получилось. Поскольку они уезжали и надо было собираться в дорогу, пляж мимолётного друга кончился раньше, и они по-взрослому друг другу пожали руки, пожелав успеха и выразив надежду на встречу, адресами и даже фамилиями обменяться не догадавшись. Проводив нового и уже бывшего друга до кабинки, которую его семья занимала, на обратном пути, как позавчера перед ужином, споткнулся о взгляд. Несомненно, хозяин этого взгляда был тем же: вечерним, утренним, что страшнее всего, и ночным. Взгляд, дёрнувшись, оторвался от странной фигуры, сидевшей в шезлонге, раскрывшей на коленях дорожный бювар и что-то строчившей вечным пером. Кабинка странного господина, нашедшего место и время строчить дурацкие письма, была неподалёку от кабинки семьи его уже бывшего друга. Ощутив взгляд писаки, застыл и стоял, глядя куда-то вдаль, краем глаза, боковым зрением следя за господином, который то и дело переводил свой взгляд с него то на море, то на бумагу перед собой, то на его друзей, как ни в чём не бывало строящих замок. Стены замка то и дело обваливались, был необходим материал – мокрый песок, за которым бегали к морю, вместо того чтобы набрать в бутылку и поливать песок, бесчисленность которого в Ветхом Завете утверждается великое множество раз. Остановленный взглядом, почувствовал необходимость от него откреститься, словно от дьявола, что показалось детским и стыдным, хотя мысленно пролепетал про себя заклинание, которое придумал, едва попав в пансион. Потом, делая вид, что поправляет костюм, мелко перекрестился, и снова повернулся, надеясь, что взгляд уже скрылся, исчез, в синеве морской или небесной навсегда растворился. Но нет. Тот, отложив свой гнусный бювар, пробовал клубнику, которую разносил в картонных коробочках торговец, смуглый от вечного солнца, с вечной улыбкой на скуластом лице. Даже пробуя клубнику, писец посматривал в его сторону, словно держал, как собачонку, на поводке. Ах, так! Захотелось набрать полные горсти ветхозаветного песка и швырнуть в господина, чтобы испортить клубнику, за которую тот уже заплатил и ел с видимым наслаждением, чтобы засыпать дорогой дорожный бювар, с которым эта пся крев и на пляже не расстаётся. Вместо этого повернулся на месте на одной ноге, словно в танце, загребая другой ногою песок, и рванул со всей мочи к замку, который надо было скорей приготовить для голубоглазой принцессы, которую он, хозяин замка и тоже, дело понятное, принц, вот-вот поведёт под венец. Но сколько ни оглядывался, младшая принцесса не появлялась, а потому и принцу замок постыл, тем более что строители попались неуклюжие и неумелые. Поссорившись с ними, к воде поковылял, чувствуя на спине раздевающе пристальный взгляд угрюмого господина, пишущего письма в банк или на биржу, приказывая купить акции компаний, которые производят оружие. О, тогда на пляже он был большой пацифист и социалист, как и все взрослеющие дети его круга и возраста в ту блистательную эпоху. Впрочем, на эти скучные темы они с пляжными приятелями не говорили. Может быть, с мимолётным другом, останься тот в отеле подольше, они до этих тем скучными вечерами и добрались бы, но тот уехал, а на нет не только суда, вообще нет ничего. В купе заглянула голова в форменном картузе: не желает ли чего господин, пиво, сладости, папиросы? Господин не желал ничего, кроме покоя и скорее добраться. Долгая поездка становилась невмоготу. Сам виноват, выбрав этот маршрут и расписание это – неотвратимо тянуло. Пять лет не путешествовал, и вот внезапно магнитом тащило вновь оказаться в стайке беспрерывно болтающих вздор полуюношей и полудевушек, стремящихся, чтоб окружающие не видели в них детей, за которыми следят мамаши и гувернантки, а за некоторыми и отцы, оторвавшиеся на пару недель от стали, банков и акций. В этой трезвонящей стайке он влетел в лифт, где она напоминала мельтешение мелких рыбёшек у берега в тёплой и светлой, прогретой ярким солнцем воде. Извне их движение непонятно. Наблюдающему смысл рыбьего кружения совсем не доступен. Втиснулись в лифт, каждый изворачивался входя, чтобы оказаться не с тем, кого судьба подсунет ему не раздумывая, а с тем, с кем хотелось бы обменяться взглядами и прикосновениями. Ему место в лифте было совсем безразлично. Друг не случился. Сёстры к их компании не прибились. Искать глазами и кончиками пальцев ему было некого, тем более обмениваться взглядами настойчиво красноречиво. Подумал: чего-чего, а взглядов, хоть бы и дружеских, ему никак не желалось. Мысль – по заказу. Мелькнуло – спину прожгло. Ёкнуло, опустилось – и обернулся. В углу, зажатая племенем новым, совершенно ему не знакомым, блестящим и разноцветным, не стесняющимся обнажаться на пляже, надевая немыслимые костюмы, в углу, скукоживаясь, ёжилась чёрная фигура с бледным лицом, от которого отделялся взгляд блестящий, загнанный и болезненный, молящий о помощи, на которую уповать бесполезно. Никто молчаливую боль понять был не в состоянии, никто мольбу услышать не мог, никому ни здесь, в лифте, медленно поскрипывающем наверх, ни на выходе из него – нигде и никто понять, постигнуть не мог. Это сейчас и словами получается длинно многоречиво. Тогда всё – и отчуждение и сострадание – одновременно промелькнуло мгновенно, чтобы тотчас исчезнуть, когда вместе с частью ватаги выскользнул из клетки на своём этаже. Может, ему плохо в углу этой клетки, может он, как это называется, закрытого пространства боится? С этим вопросом вытиснился из лифта, унося на себе и в себе проникающий молящий взгляд чёрного господина, пишущего письма на пляже, господина, страдающего в лифте среди звонкоголосого искрящегося веселья, молодого и глуповатого. По длинному ковру коридора нёс в себе этот страдающий взгляд, страшась обронить, боясь от него отвязаться, но у двери перещёлкнуло, что-то его разозлило и, закрывая дверь, он ею хлопнул, прилипчивый взгляд отсекая. Матери в номере не было, иначе не избежать нареканий: ничего резкого и шумного не переносила.
В номере он, однако, не усидел. Попробовал читать – ни во что внятное слова не слагались. Нечто непонятное в нём бурлило, кипело, то поднимаясь, то оседая, словно опара, которую затискивали в громаднейший чан, а она, подняв крышку, из него опять выползала. Пробовал определить, что же такое с ним происходит, но, как ни пытался, ничего определённого о своих чувствах сам себе сказать не сумел. Нужных слов не было. А как даже себе без слов что-нибудь объяснить? Попытался подумать о младшей, которая то в тень уходила, то на свету появлялась. На минуту эти мысли его отвлекли. Даже сумел, зажмурив глаза, её чётко представить: и лицо, и фигуру, и два оленёнка из Песни песней, вовремя впорхнувшие в разгорячённую голову. Странно, но даже эти чудесные с розовыми пятнышками оленята не задержались и ускакали. На их место явились глаза, утратившие прежнюю тяжесть и прежнюю жгучую силу, в спине его дырку проделавшие, глаза, которые сверлили и досверлились до полного изнеможения, до робкой надежды, с каждым мгновением исчезающей. Глаза эти утратили блеск, став мутными, полными отчаянной мольбы и бессильной молитвы. И забыв, что надо переодеться к обеду, что условился встретиться с матерью, гулявшей со случайной знакомой на набережной, забыв обо всём, он побежал по коридору к лифту в поисках взгляда, которому необходимо помочь выпутаться из тяжкой беды, излечиться от страшной болезни, сводящей в могилу. Не дождавшись лифта, запрыгал по ступенькам вниз к ресторану, надеясь там с несчастным взглядом столкнуться. Он был уже у ресторанной двери, как вдруг налетел на какого-то господина и, пробормотав извинения, хотел двинуться дальше, но дёрнуло, остановило, попятился, поднял голову и уткнулся в щенячий взгляд невысокого седоволосого высоколобого человека, пробормотавшего в ответ на извинения не что-то обычное – ничего, пустяки – иные слова, настоящие, ему недоступные, не то чтобы он их не понимал, но чужие, на которые натыкаешься и обходишь, словно препятствия, внезапно явившиеся на пути. Даже почудилось среди других слово, похожее на «благословляю», или что-то подобное, очень – определил для себя – молитвенное, из слов чёрного цвета, тех, что часто произносили воспитатели в пансионе. Ещё ощущая это слово в ушах, ещё пытаясь это слово осмыслить, для чего понадобилось отрешиться от суеты, обыкновенно царящей у ресторанного входа, он, неся слово на распахнутых кверху ладонях, как драгоценность, подошёл к двери, там вдруг ударило – остановился, обернувшись, увидел хозяина взгляда, преследующего его с момента приезда в этот злосчастный отель. Тот смотрел ему вслед, взгляд был твёрд, не суетлив и вместе с тем очень мягок. Мелькнуло: мягкое твёрдым бывает? Тем временем господин, продолжая уже удивлённо смотреть – почему вы, милый юный друг мой, остановились? – что-то говорил администратору, протягивая деньги, вероятно, оставлял всем, кто обслуживал его, чаевые. Значит, он уезжает! Пока размышлял и складывал увиденное в картину, чёрный человек, оторвав жалкий просительный мягко-твёрдый взгляд от него, двинулся к выходу. Хотелось за ним побежать, но надвигалась толпа, он загораживал вход, на него удивлённо смотрели, ничего не говоря. Опомнившись, двинулся в угол – взгляд оттуда его впервые прожёг – и увидел: за чёрным силуэтом лакеи несут чемоданы. Конечно, он уезжает! Это был последний взгляд на него! Так взгляд с ним прощался! Почему же он, дурак, на этот взгляд никак не ответил?! Почему не крикнул хотя бы в спину: «Счастливого пути вам, удачи!»? «Что ты здесь делаешь? Почему не за столом? Почему не переоделся?» Для матери эта речь была невероятным образцом красноречия. Похоже, свой дневной словарный запас она исчерпала, обидевшись на него, и не проронила ни звука, когда он, взлетев на лифте и мигом переодевшись, через пять минут сидел за столом напротив неё и улыбался потерянно и виновато. Нехотя дожевав свой бифштекс, который обычно был очень по вкусу, встав вслед за матерью из-за стола, на полшага от неё отступая, поплёлся в холл, где его должны были представить новоявленной подруге, с которой у матери оказалось очень много общих знакомых. Представление состоялось. Были сказаны приличествующие месту и событию фразы, и он был милостиво отпущен в номер – отдыхать от внезапно нахлынувших ощущений. Пытался чувства распутать, то одну нить вытаскивая из узла, то другую. Но чем больше нитей он дёргал, чем сильнее пытался их выдернуть, тем узел всё больше и безнадёжней затягивался. Всё, слипаясь, запутывалось, он чувствовал, что его бросили, забыли и предали. Даже если бы и сейчас, сидя в поезде, медленно к цели везущем, пытался бы узел тот развязать, переводя ощущения, тогдашние чувства свои вербализуя, ничего бы не получилось. Оставалось одно: пытаться вспомнить те ощущения, не слишком стараясь в них разобраться. Ведь не во всякой ненависти и не во всякой любви есть смысл разбираться. Если и сейчас он не может, чего ожидать от тогдашнего в дорогущей матроске или в оголяющем тело пляжном костюме? Вечером они с матерью, как всегда, почти безмолвно возвращались с прогулки. Он носком толкал камешек перед собой, исподлобья озираясь на мать в ожидании строгого взгляда, после которого с камешком придётся расстаться. Расстаться, значит, предать. Как его друг мимолётный, как – он запнулся – чёрный человек с его пристальным взглядом прожигающим, твёрдым и мягким, застенчивым и откровенно молящим. Он друга не предал – тот убежал: спрыгнул с дорожки в траву и исчез, в зелени растворившись. Дёрнулся было за ним, но вовремя представил себя на корточках или с поднятым задом копошащимся в траве у всей гостиницы на виду. Усилием воли от тщательно постриженного газона подняв голову, отвернулся, и в гостиничном окне увидел чёрно-знакомое. Стал присматриваться – различить лицо, уловить взгляд, но далеко – был близорук, хотя очков не носил, мать не настаивала, считая, что очки ему не идут. Показалось. Он ведь уехал. Чаевые и чемоданы. А в окне – мало ли кто носит всё чёрное. На следующий день, на всякий случай не торопясь, оглядываясь по сторонам, чинно, как подобает юному джентльмену, вошёл в ресторан, внимательно окинул все столики – нигде взгляда, из чёрного пробивающегося, не было и в помине. Откуда взяться? Уехал. Своими глазами видел вчера. Словил себя на мысли, что испытывает нечто сродни разочарованию, чувство не острое, не болезненное, а какое-то, вроде, сосущее. С матерью был предупредителен необычайно. Не забыл поцеловать ей руку с утра. Упредив официанта, и даже, можно сказать, несколько его движением руки отстранив, пододвинул ей стул, ускорив шаг, открыл перед ней ресторанную дверь, униформу, расшитую галунами, опередив. Каждый раз смотрела в его сторону благосклонно, что сулило в понедельник сумму карманных денег, несколько обычную превышающую. Что было не лишне, совсем остался без денег, даже прежде сбережённое потратив на всякие пляжные мелочи, которыми торговцы в разнос постоянно его соблазняли. Благосклонное выражение лица матери переводил в слова так: «Милый мой мальчик растёт подлинным джентльменом», что было самой высшей наградой, самой отчаянной похвалой. Эти слова никогда он не слышал. Такой характер. Воспитание. Образ жизни. Получается, уже с тех давних лет он учился переводить словами не только затаённые чувства и взгляды, которые нелегко толковать, но и выражение лица и жесты от самых простых до скрытных, потаённых, таящих в себе такой клубок, что поди разберись, распутай, поди догадайся. Как всегда, в это утро пляж был с беготнёй, купанием, криками, на берег зовущими, прилипшим пляжным костюмом, более, чем сухой, обнажающим; был пляж с его сутолокой разноязыкой и разноцветной, с возгласами продавцов всего что угодно, на этот раз его раздражающими: деньги кончились, а просить у матери на подобные мелочи было не принято, так было заведено при отце, так и после смерти его продолжалось. На этот раз ему ужасно захотелось – что-то щёлкнуло – клубники, которая ярко и сочно выглядывала из коробочек, лежащих у разносчика на лотке. Чтобы не соблазняться, двинулся в сторону от их кабинки, ища глазами сестёр, загадывая, в каком пляжном костюме сегодня явится младшая. У неё было несколько, и розовый с белым ему нравился больше всего. Когда её представлял, это розово-белое сползало само собой, как-то с её нежной плотью сливалось, и он видел всю её, стоящую перед ним во весь рост в лучах предзакатного – это уж непременно – предзакатного солнца. Как ни вглядывался, сестёр не нашёл. Подумал-подумал, не начать ли строить совсем новый замок куда больше прежних, но сообразил, что эта детская возня ему надоела. Поковыряв ногою песок, двинулся дальше: там пляж заканчивался и начинался берег, обычный, без всяких кабинок, сочной клубники и резвящейся публики. Там, на границе миров, дикого и обжитого, в холщовом одеянии – блуза с закатанными рукавами и штаны, закатанные до колен – стоял за мольбертом художник, перенося на холст великолепное море, светло-зелёное у самого берега, дальше наливающееся темнотой, а затем и тяжело чернеющей синью. Сделал шаг и другой, художник не отгонял, никакого внимания не обращая, и он, постояв, посмотрев, успев пожалеть, что рисовать не учился, поплёлся назад: солнце высоко поднялось, приближалось время в гостиницу возвращаться. Нехотя, не спеша доплёлся до их кабинки и остолбенел: неподалёку от них на шезлонге, установленном на деревянной площадке, сидел уехавший вчера господин, у него на коленях лежала раскрытая книга, он внимательно и ласково смотрел на него, видимо, следя его путь издалека, едва ли не от границы пляжа и дикого берега, где битый час стоял у художника за спиной, наблюдая, как тот переносит живое море на холст, и сожалея, что рисовать не учился. Иначе не море, но свои иллюстрации к замечательной книге нарисовал бы. Её тайком от матери купил на парижском развале. Наугад вытащил из стопки дешёвых и, закрыв на первой же иллюстрации, вытащил из кармана монету. Получив плату, старик-продавец, приподняв далеко не новую шляпу, улыбнувшись, сказал: «Поздравляю, юноша, с вступлением в новую жизнь, vita nova – это прекрасно!» И в ответ на вскинутые брови добавил: «Vita nova – это жизнь во имя любви!». Продавец не обманул. И, вспоминая младшую из сестёр, читал, как он и она, сидя у дубового пня, друг к другу прижавшись, сладость поцелуев вкушали и наслаждением упивались. Эти слова «вкушали» и «упивались» он, растягивая по слогам, повторял раз за разом, сбиваясь с чтения о том, как в объятиях Дафниса Хлоя склонялась. Он видел, как в его объятиях младшая всё ниже и ниже, почти к песку прижимаясь, склоняется, а он левой рукой поддерживает её голову, обнимая правой прекрасный стан – и это слово много раз повторял – а чтобы не потерять её губ, за ней нагибается. А потом Дафнис и Хлоя долго, тесно прижавшись, лежат, не зная, что дальше им делать. Но он-то знает и делает то, что в Древней Греции не ведали юные пастухи, а он, едва поступив в пансион, узнал во всех возможных подробностях. Что, если как-нибудь исхитрившись, показать младшей картинки и что-нибудь прочитать из этой невыносимо болезненной пасторали? Ну да. В лучшем случае высунет язык и скажет ему дурака. Ну а в худшем… Тогда останется одно: застрелиться. Только где пистолет тут добудешь? Что ж, судьбу следует поблагодарить хотя бы за то, что после этой книжки ему отвела почти полную жизнь на картинки, тексты, музыку, на балет, короче, на знатный кусочек искусства об этом слишком невинном уж пастушке и этой чуточку лукавой невинной пастушке. Забегая вперёд: с младшей попастушествовать не пришлось. То ли соответствующая скульптура отсутствовала, то ли музыка иная звучала, совсем не та, что сейчас вместе со стуком колёс, душу его вознося, в купе пробивается. Там, в этом отеле при пляже, или на пляже, что при отеле, было, как и везде, очень много Сальери, но и Моцарт в сероватой почве иногда золотым песком пробивался. Впрочем, как бы Сальери с Моцартом ни тягался, обоих смерть победит. А уж кого где закопают, кому, где и какие поставят памятники – дело потомков. Что же касается высоких материй, то до них надо было ещё дорасти.
С этого пляжа он по несколько раз на дню встречал на себе этот становящийся всё более долгим, пристальным, нежным и ласковым взгляд. Сидя у моря, взгляд погоды не ждал. Любая устраивала. В солнечный безветренный день что-то писал, поминутно вглядываясь в него, будто словами портрет рисовал, и если не замечал, не продолжал писать, пока не заметит. В пасмурную и ветреную погоду то же самое делал, укрывшись сине-зелёным пледом, видавшим виды, но ещё крепким, и, видимо, чем-то хозяину памятным. Что же он пишет? Хотелось подойти и спросить, а может, заглянуть через плечо, как с художником это проделал. Но джентльмен такого позволить себе не может никак, никогда, ни при каких обстоятельствах. Он слышал слова отца, которые жестом и мимикой мать повторяла. С каждым днём всё больше хотелось с уехавшим и вернувшимся заговорить. Но сделать это было никак не возможно. Другое дело, если тот ему что-то скажет – гостиничные вольности это вполне допускали, даже о чём-то попросит. Молчал. Хотя на взгляды никак не скупился. Они часто встречались не только на пляже, но и в ресторане, и в лобби. Встречал этот взгляд, который мог от сотни других отличить, и тогда, когда уходил с мячом на площадку. Что тому было там делать? Только смотреть на него, ловить каждое движение, любоваться ловкостью тела и огорчаться, когда что-то не получалось. Даже слышал, как тот подбадривает, ничего, мол, попробуй ещё, с первого раза не получается ни у кого. Утром на пляж он не шёл, как все за кабинками по мосткам, а по песку, как никто не ходил. Проходил мимо кабинки чёрного человека, едва не задевая шезлонг и маленький столик, за которым тот писал и читал. Иногда даже, когда вокруг не было никого, наклонялся, будто что-то в обуви поправляя, чтобы встретиться с его глазами, серьёзными, внимательными и в последнее время не очень спокойными. Такие глаза были у его пансионного, увы, недолгого друга, который пробыл в пансионе с начала семестра всего две-три недели, к концу этого срока они постепенно сошлись. Но вдруг заболел, забрали, и больше в пансион не вернулся. Так уж в жизни его выходило: если редко-редко кто-то случался, то ненадолго. Миновав шезлонг и столик, всегда испытывал жгучее желание остановиться и оглянуться. Только мысль: что о нём могут подумать, – заставляла двигаться дальше, и он ковылял, медленно в себя приходя. Встречаясь, всегда издалека узнавали друг друга. Теперь уже он, заметив чёрного господина, первым искал его взгляд, стараясь в свой вложить, что было у него на душе: интерес, внимание и даже заботу, хотя, переведи это в слова, остаётся лишь посмеяться желанию заботиться о господине, который привык наверняка к заботе, если и не родных, то хотя бы тех, кто служит ему, предугадывая желания и стремясь их удовлетворить как можно лучше. Конечно, таких связных мыслей у него тогда не было, но было чувство, которое всех слов самых замечательных, всех слов точней и умнее, если так можно сказать о чувствах, сопротивляющихся словесному уловлению. Было довольно горько, двигаясь к конечной цели своей, осознавать, что всё, чему всю жизнь кропотливо учился, зачёркивая написанное собой и подсматривая у других, и современников, и больше всего у предшественников, великих и малых, всё это, все эти слова, ритм текста и фразы, сцепление слов, их игра, одним словом, всё это, всё в этом искусственном, пусть даже искусно, но придуманном мире, всё было ничто по сравнению с чувствами того мальчика, образованием своим от сверстников не слишком отличного. Жизнь можно научиться описывать. Но жить жизнью научить невозможно, как невозможно научиться быть морем, песком, чириканьем воробья или неведомых птиц, каждое утро приветствующих его пробуждение из великолепной кипарисовой кроны, густо зеленеющей за полуоткрытым на ночь окном. Так в семье было принято, так отцом заведено: вплоть до настоящих, обычно поздней осенью наступающих холодов спать с полуоткрытым окном: значение свежего воздуха для организма неоценимо. Эта незамысловатая отцовская сентенция звучала в ушах и сейчас: в купе окно было полуоткрыто, хотя в свежести воздуха приходилось и сомневаться. Этот город на всю жизнь поразил его не красотой – редким изяществом. Даже бесчисленные витрины не зазывали грубо, громогласно, вульгарно, но изящно, немного жеманно заманивали. Однажды шёл в своей роскошной матроске из парка. Мать с подругой остались шептаться. Народу немного. Было свежо той приятной свежестью, которая наступает после такого жаркого дня, что мысль, даже случайно мелькнув, тотчас же испаряется. Шёл по боковой дорожке, по которой мало ходили. Хотя к взглядам, провожающим его, и привык, но чем меньше прилипали, тем лучше. В месиве взглядов искал тот единственный, к которому так привязался, что, если полдня не встречал, начинал нервничать, будто что-то случилось. В этот день до самого вечера со взглядом своим, так теперь его называл, не встречался. Было не по себе, но оставалась надежда на вечер: ужин, потом гулянье, да и в холле нередко встречались. Дорожка резко свернула, и вдруг лицом к лицу со взглядом столкнулся. От неожиданности оба остановились, пытаясь понять, что случилось. Глаза встретились, и взглядами поменялись: его взгляд прожигал чёрного человека, а тот отвечал спокойно, не отводя глаз, уверенно. На лицах появились улыбки: на какой-то миг оба с собой не совладали, нарушив приличия. После этого что-то переломилось. Будто улыбки были чем-то греховным, о чём непременно надо бы исповедоваться. По воскресеньям пляж отменялся. Они с матерью ходили на службу. В соборе даже по воскресеньям было не слишком людно. Пляж роскошный. Погода прекрасная. Для молитв больше скверная погода подходит: суетное не отвлекает. В соборе, дурманя, сладковатый ладан курился. Священнические одеяния оглушали тяжёлым своим разноцветьем. Свечи сверкали острыми, колкими огоньками. Звуки органа всегда действовали на него необыкновенно, к земле пригибая. Вот и сейчас, опустив голову, повторял слова священника, глядя в молитвенник, внимал музыке, которая потрясала, и внезапно ощутил этот взгляд. Отвлёкся, музыка отдалилась, слова в молитвеннике расплылись, стал искать взгляд, уже ощущая: тот стал другим, не ясным, ласковым и спокойным, а пронзительным, жгучим, рогожинским. Остаток службы ёрзал, крутил головой, отыскивал взгляд, но тот сумел спрятаться, в толпе затеряться, чувствовал его то на спине, то на лице – хозяин взгляда успел вперёд забежать, когда из собора они выходили. Шли по улицам с матерью – тот шёл за ними. И за всеми следовал гул колоколов, порождающий смертные воздушные волны, которые грозили с головой накрыть обитателей города, и приезжих, и местных. Задумавшись, остановился, повторяя про себя много раз: «Над вздыманием моря Ты властвуешь, вознесение волн успокаиваешь». Слова псалма немного утешили. Мать несколько раз внимательно посмотрела, наконец, не выдержав, что крайне редко случалось, волнение выразила словами. Ответил невпопад, и она заторопилась домой, не понимая, что происходит. Всю дорогу взгляд метался, кружил, забегал вперёд, чтобы, пронзив, под одежду забраться и шарить, выискивая секрет красоты, которая его угнетала. Давно хотел состричь длинные волосы, но без разрешения матери – а она этого никак не желала – пойти к парикмахеру не решался. Да и денег не было даже на пустяки. Поезд остановился. Последняя станция перед конечной. Никто из вагона не вышел. Никто в вагон не вошёл. Выглянул в окно, словно пытаясь увидеть того, кто только что говорил о парикмахере, роскошных локонах, деньгах и пустяках. Выглянул – и увидел. Шёл навстречу, в фонарном свете локоны золотились, матроска обтягивала ещё не широкую грудь, из безумно дорогой он уже вырастал. Шёл навстречу издалека, вероятно, со станции назначения, куда он стремился попасть, вот уже более суток на самолёте и поезде к ней приближаясь. Шёл, опустив глаза, носком футболя камешек, чем-то ему приглянувшийся. «Подними глаза, подними, ну, подними!» – просил, умолял, надо было удостовериться: действительно он, взгляд – это главное, настоящее, остальное можно придумать, подделать. Впервые в жизни просил Бога о чуде, но голову мальчик не поднял, глаза их не встретились, чудо и на этот раз не случилось, дерзкая просьба была не только глупа, но и напрасна. Разве Богу есть дело до мелких событий в жизни одного из бесчисленных человеков? Колокол зазвенел, поезд в дальнейший путь отправляя. Обессиленно на жёсткое сиденье опустился. За окном, прощаясь, безымянная станция промелькнула. Вскочил, попытался, вывернув голову, увидеть шедшего навстречу и исчезнувшего сзади, вдали – бесполезно. Прошлое – субстанция независимая: проявляется, когда пожелает. От этой мысли почувствовал себя совершенно обессиленным, опустошённым, как после работы – множества скверным стремительным почерком исписанных упавших на пол листов, или после соития сладостного и мучительного. Острозаточенный взгляд проникал, полосовал, одним движением рассекал одежду, и та исчезала, в туманной мгле растворяясь. Взгляд скользил, вонзался, разрезал на части, на доли пластал, но было не больно. И не было противно: себя разъятым не видел. Вообще, не чувствовал ничего: сковало, словно парализующий яд в вену ввели, или, накинув маску, заставили дышать наркотическим газом. Наверняка взгляд василиска – мелькнуло и тотчас угасло. Верно, взгляд, на мгновение оплошав, иглой в сердце вонзился и, остановив его, продолжал бродить по телу невесомому, нечувствительному. Взгляд скользил по рукам, по ногам, по груди, во все впадины забираясь, во все выемки плоти, словно вода, оставшаяся после волны, забирается во все щели, все ущербинки скал, которые, никогда не высыхая, блестят на солнце отчаянным блеском, словно глаза умирающих, взглядом хватающиеся за соломинку – крошечный жизни остаток, истончающийся перед вечным безмолвием полым, бесцветным, пустым. Сегодня, похоже, усы и шевелюра всемогущего взгляда были черней, щёки слегка розовей, а губы краснее. Может, клубники наелся? Это губы. А остальное? Откуда бы ни уходил, унося свой прекрасный и чудовищный взгляд, вслед ему осведомлённая прислуга громко шептала: «Значительный человек!». Если хозяин взгляда значителен, то и тот, на кого его взгляд устремлён, должен тоже значительным почитаться? Разве не так? Что можно на смешные полудетские вопросы ответить? Порадоваться, что когда-то в юной голове прозвучали, и радостно улыбнуться. Что тем более ценно в пору жизни, когда поводов для улыбки всё меньше и меньше. День ото дня их взгляды сцеплялись во всё более удлиняющуюся цепь, назначение которой оставалось неясным: то ли друг к другу их привязать, то ли, удушая, захлестнуть чью-то шею.
Слух и запах возникли одновременно. Час от часу всё усиливались и крепчали. Вначале таились, прятались в шёпоте и углах, но с каждым днём становились явственней и непреклонней. Город, гостиница, пляж постепенно пустели: мерзостный запах хлорки-карболки и гнусные словечки мор и поветрие, словно метлой, выметали. Публика нервничала и бежала. Стремительно, очертя голову, чтобы не успеть по-настоящему, со всеми потрохами страху поддаться. Местные были спокойней: им бежать было некуда. Словечки старались не произносить, пытались от них отчураться, будто сами звуки заражали смертью воздух и воду. Беда, напасть – всяческими эвфемизмами слова смертоносные заклинали. Пытаясь бегство остановить, хозяева гостиницы на всякие уловки пускались. Придумали концерт уличных музыкантов. После ужина, когда не слишком многочисленная публика вышла из ресторана, вдыхая запах цветов, смешанный с вонью, её громко встретило представление. Уличные пели, плясали, бряцали, горланили – делали всё, что умели, броско, громко, аляповато, площадно и брутально, вызывая смех и икоту, веселье и колики в животе. Надтреснутую гитару с выпяченным задом и жестяной звук мандолины отвислогрудой перекрывал плебейский аккордеон с залихватски изогнутыми кверху острыми кончиками густо-чёрных усов. Упрашивал мать остановиться послушать и посмотреть. Та, сославшись на головную боль, решительно ему отказала. В последние дни, когда всех донимала тревога, его скука отчаянно одолевала. Всё-таки мать упросил, та пошла прогуляться, а он посмотрит немного, ну, минут десять, и тотчас догонит. И пяти минут крикливого балагана было достаточно. Как только остался один, ощутил взгляд, на этот раз одновременно и потерянный, и пронзительный. Взгляд пил какой-то красного цвета коктейль, поглядывая на явно раздражавших его музыкантов. Чем больше балаганный шум и гам доставали, тем взгляд становился требовательней и настойчивей и, странно, одновременно совсем пришибленным, по-собачьи подобострастным. Наконец, не выдержав взгляда и уличных, спрыгнув с балюстрады, на которой сидел, догнал мать, удивившуюся, вдруг увидев его. И был тотчас услан вперёд: приближалась подруга и ставший привычным обряд шептания, его ушам не назначавшийся. На этот раз обряд продолжался недолго. Позвали. И всё понеслось, затряслось, покатилось. Постояльцы спасались бегством. Местные могли только завидовать. Но ни те, ни другие не знали, что это лишь репетиция, даже не репетиция – читка. В последний день, когда уезжали, мать отпустила на пляж одного, взяв слово, что через час будет обратно, один раз искупается в море, попрощается и вернётся. Подозревал, что мать отпустила по причине весьма тривиальной: чтобы не мешал собираться, путаясь под ногами. Не то чтобы ему слишком хотелось на пляж, просто делать было нечего совершенно, и так последние дни в душе царило уныние. Как всегда, теряя прозрачность, воздух обрёл пастельную призрачность. Белые барашки гуляли на море, словно невидимые пастушки Дафнис и Хлоя гнали их на водопой или домой. Было пустынно: всех сдуло ветром, или, что-то прочуяв, все отправились золотое руно добывать. Только несколько семейств доживали последние пляжные дни, а то и часы. Никто на него не смотрел. У знакомой кабинки шезлонга со столиком не увидел. Уехал. Кольнуло: не попрощался, расставаясь, взглядом его не прожёг. Из всех знакомых только один толстый и на голову выше его копошился у замка. Подошёл, посмотрел, что-то тому не понравилось, то ли наступил не туда, то ли ещё что. Спокойно хотел отойти, но тот, вдруг вскочив, набросился, навалился всей жирной тушей. Не ожидая, свалился, тот на него, через минуту понял: не вырваться. Ещё минута и задохнётся. Кто-то подскочил, тушу стащили. Встал и, не отряхиваясь, побежал по мокрому песку, по кромке моря. Было обидно и горько. Ничего туше не сделал, ничего не сказал. Какого чёрта сбил с ног и навалился? Шёл весь в песке, жалея, что прощание с морем выдалось гадким. Надо смыть с себя этот позор, дурацкую драку, все эти взгляды. Войдя в море, побрёл, тяжело переступая, по мелководью, но терпение лопнуло, и, не забредя на глубокое место, со злости швырнул тело в волну, и та, успокаивая, его от берега оттащила. Поплавал, побарахтался и двинулся к кабинке переодеться. Взгляд его встретил, сидел, как обычно, в шезлонге, столик с бюваром стоял перед ним. В руке было перо, а взгляд прикован к ковыляющему по песку в голом пляжном костюме, ставшему всеобщим посмешищем, прижатому спиной к песку вонючим уродом. Понял: всё происшедшее видел, запомнил и не забудет. Смотрел, но ничего во взгляде не мог прочитать. Не прожигал, не ласкал, потухая, внутрь уходя. Подойдя к кабинке своей, оглянулся. Возле чёрного человека копошились какие-то... [...]
Купить доступ ко всем публикациям журнала «Новая Литература» за январь 2021 года в полном объёме за 197 руб.:
|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсы Биографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 24.03.2024 Журналу «Новая Литература» я признателен за то, что много лет назад ваше издание опубликовало мою повесть «Мужской процесс». С этого и началось её прочтение в широкой литературной аудитории .Очень хотелось бы, чтобы журнал «Новая Литература» помог и другим начинающим авторам поверить в себя и уверенно пойти дальше по пути профессионального литературного творчества. Виктор Егоров 24.03.2024 Мне очень понравился журнал. Я его рекомендую всем своим друзьям. Спасибо! Анна Лиске 08.03.2024 С нарастающим интересом я ознакомился с номерами журнала НЛ за январь и за февраль 2024 г. О журнале НЛ у меня сложилось исключительно благоприятное впечатление – редакторский коллектив явно талантлив. Евгений Петрович Парамонов 
 |
|||||||||||
| Copyright © 2001—2024 журнал «Новая Литература», newlit@newlit.ru 18+. Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021 Телефон, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 (с 8.00 до 18.00 мск.) |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Дополненная и виртуальная реальность - применения технологии дополненной реальности. . https://gos-ritual.ru стоимость кремации в городского крематория санкт петербург. |
|||||||||||

