Художественный смысл
Критическая статья
 На чтение потребуется полчаса | Цитата | Скачать в полном объёме: doc, fb2, rtf, txt, pdf
«…надрывный крик о синтезе, но нет самого жизненного и познавательного синтеза».
Бердяев
Читатель, я в растерянности. Я завожу разговор об очень скучной книге. Спрашивается, зачем это вам нужно? Но я и вообще-то пишу не для широкого круга. Я пишу скорее для будущих людей. И для тех, которые уже к таким приближаются. А будущие люди, по-моему, нацелены на чрезвычайно тонкие переживания от произведений неприкладного искусства. Так вот от обсуждаемой книги такие тонкие переживания возникают (я пишу эти слова после неоднократной встречи с соответствующими местами; о них отчёт – ниже). Но очень уж она скучна. И я в растерянности: не перегибаю ли я палку с выбором объектов рассмотрения, не осудят ли мою статью даже и мои, специфические, так сказать, читатели. Меня поддерживает замеченное явление: в критическом разборе разбираемая вещь выглядит гораздо симпатичнее, чем в непосредственном чтении. Так мне говорили, например, о моём разборе обоих томов «Мёртвых душ» Гоголя. Есть и ещё один эффект. Хорошие книги – знаменитые так уж точно – как-то нечитабельны. Например, «Илиаду» и «Одиссею» иные филологи (мне признавались) так и не прочитали. Но я заметил за собой, что, если я себя переборю, то дочитываю до места, которое… Например, я рыдал, когда умирала Юлия в романе Руссо «Юлия или Новая Элоиза». А в конце «Доктора Живаго» Пастернака я словно по облакам ходил. Так вдруг кто-то и мне спасибо скажет за то, что я его направил, преследуя свои интересы, на сомнительную книгу…
Я десятки рисунков Леонардо до Винчи просмотрел, но так и не нашёл ужасного человека в монашеской одежде, смотрящего вверх. Чтоб смотрел вверх – есть два рисунка.

А вот у этого можно разве считать, что есть что-то от монашеской одежды?

Монашеская одежда такая. 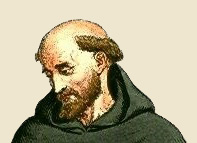   У Леонардо нарисован не монах. Больше смотрящих вверх карикатур у Леонардо нет. А что написал Мережковский в своей книге «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» (как книга напечатана в 1901)? «Джованни увидел страшную карикатуру. Это было лицо не Савонаролы, а старого безобразного дьявола в монашеской рясе, похожего на Савонаролу, измождённого самоистязаниями, но не победившего гордыни и похоти. Нижняя челюсть выдавалась вперёд, морщины бороздили щёки и шею, отвислую, чёрную, как на высохшем трупе, вздёрнутые брови щетинились, и нечеловеческий взор, полный упрямой, почти злобной мольбы, устремлён был в небо. Всё тёмное, ужасное и безумное, что предавало брата Джироламо во власть юродивому, косноязычному ясновидцу Маруффи, было испытано в этом рисунке, обнажено без гнева и жалости, с невозмутимой ясностью знания. И Джованни вспомнил слова Леонардо: «Душа художника должна быть подобной зеркалу, которое отражает все предметы, все движения и цвета, само оставаясь неподвижным и ясным»». И потом – совершенно ж не такой нос у Савонаролы…

Я предполагаю, что в конце 19 столетия Мережковскому и без посещения Италии были доступны альбомы репродукций, где было и это вот изображение картины Фра Бартоломео, и множество рисунков Леонардо. А Мережковский к тому же в Италии просто был. И тогда запросто мыслимо думать, что Мережковский намеренно преувеличил «нападение» Леонардо на священника, пусть и впавшего в немилость папе римскому. – Другое дело: осознанно или подсознательно это сделал Мережковский? В описании Джованни Мережковского ещё одного произведения Леонардо можно проследить ту же тенденцию наведения низменной, скажем так, напраслины на Леонардо. «Луч бледного влажного солнца упал на Колосса. Джованни прочёл в этих жирных морщинах двойного подбородка, в страшных глазах, полных хищною зоркостью, добродушное спокойствие сытого зверя. А на подножии памятника увидел запечатлённое в мягкой глине рукой самого Леонардо двустишие: Expectant animi molemque futuram, Suspiciunt; fluat aes; vox erit: Ecce Deus! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Простите, учитель!.. Я думаю и не понимаю, как вы могли создать этого Колосса и Тайную Вечерю вместе, в одно и то же время?» Перевод с латинского такой: «Предчувствуют души грядущее; Расплавится медь; и голос будет: се Бог!» Речь о несохранившемся глиняном колоссе-коне для памятника Сфорца. Самого Сфорца не было даже в глиняном макете. Это описан Кондотьер Гаттамелата скульптора Донателло.

Так этот зверь был сотворён в реальности за полстолетия до Леонардо. Когда было Раннее Возрождение. Которое зверство-то идеалом своим и имело. Вырвались люди из оков церкви и – полная свобода (если говорить о вседозволенности красивыми словами).
Высокое Возрождение, к которому причисляют творения Леонардо чуть не с самых первых дошедших до нас вещей его, это тот стиль, про который существует, можно сказать, консенсус в культурном сообществе, что стиль выражает: Гармонию, если одним словом. Гармонию высокого и низкого, если тремя словами. Небесного и земного. И т. д. И священники относились, вообще-то, к небесному, высокому. Леонардо в принципе не стал бы рисовать карикатуру на священнослужителя. Потому что смысл Высокого Возрождения в том и состоял, чтоб как-то побудить до чрезвычайности впавшее в греховность общество вернуться к норме. Сколь бы ни была развращена сама церковь, бить по ней впрямую во имя идеала Гармонии не стоило. Бить по руке, дающей заказы – тоже. Леонардо этого и не делал. Иное дело – Мержковский (1865 года рождения). Насколько он был привержен к религии («рассказы няни стали причиной фанатичной религиозности), – насколько он потом, наоборот, «В 1884 году… увлёкся философией позитивизма», – настолько он мог прийти в ужас от современного ему кризиса и религии, и позитивизма (кризис позитивизма – из-за кризиса в физике). И мог захотеть это как-то спасать.
Книга Мережковского нудная. В ней нет живых людей, нет психологии. Это стилизация, наверно, каких-то старинных, средневековых произведений. Но в искусстве литературы есть так называемое (Вейдле) искусство вымысла (отличное от искусства слова, когда выражено единственно возможным образом, а иначе – невыразимо). И можно попробовать (в пику Вейдле, не переносившего отсутствия живых людей) попробовать проверить, нельзя ли в сочинении искусного вымысла заподозрить что-то похожее на след подсознательного идеала автора: вдруг что-то будет недопонятно, а объяснить всё же можно некоей идеей. Недопонятности интересно искать, даже и зная идею (я предположил, что Бердяев её угадал): «святая плоть» и «"Наше", а не "моё"».
Первое – если думать о христианстве плохо, по Розанову, или хорошо, по-няниному, или неверно, по Бердяеву, как о «религии бесплотной духовности» (Там же). Бердяев отличает апостольское христианство от следовавшего за апостольским исторического. И историческое «лелеет плоть, святит её, окропляет святой водой, мажет елеем, создаёт тепло для плоти, уготовляет воскресение тела… Старцы православные… благословляли браки, направляли семейную жизнь, давали советы чисто хозяйственные, где лавку открыть…» (Там же). И всё это получено, мол, «от языческого религиозного натурализма» (Там же). И то это, о чём говорит, по Бердяеву, и Мережковский. Так КАК он говорит? Не образом, а двумя отрицаниями, взывающими к «утверждению» третьего: нет и плотской духовности + нет бесплотной духовности = «святая плоть»? (В кавычках «утверждению» – потому что в подсознании восприемника происходит утверждение.) Вот, например, ещё одно перевирание ещё одного впечатления от произведения Леонардо (хочется думать, что дано впечатление мальчика Франческо, которого Леонардо учит – и успешно – естествознанию как науке): «Это было создание великого художника и великого учёного вместе. Слияние тени и света, законы растительной жизни, строение человеческого тела, строение земли, механика складок, механика женских кудрей, которые вьются, как струи водоворотов, так что угол падения равен углу отражения, – все, что учёный исследовал с "упрямою суровостью", пытал и мерил с бесстрастною точностью, пресекал, как безжизненный труп, – художник вновь соединил в божественное целое, превратил в живую прелесть, в немую музыку, в таинственный гимн Пречистой Деве, матери Сущего. С равною любовью и знанием изобразил и тонкие жилки в лепестках ириса, и ямочку в пухлом лобике младенца, и тысячелетнюю морщину в доломитовом утёсе, и трепет глубокой воды в подземном источнике, и свет глубокой печали в улыбке ангела. Он знал всё и всё любил, потому что великая любовь есть дочь великого познания». Это о картине «Мадонна в скалах». Что там на самом деле, см. тут. А что в романе есть противоположное этому «не то», этому отрицанию «великого познания»? Оно поблизости в тексте не находится. Оно – в образе ученика Леонардо Чезаре, который подозревает, что успехи Леонардо не в научном подходе, а в том, что он спознаётся с нечистой силой. Итого: нет своему уму + нет нечистой силе = «святая плоть»?
Теперь второе, «"Наше", а не "моё"». «…историческое христианство [мол, по Мережковскому] не соборно, не общественно, что оно – религия личного спасения и личного делания» (Там же). Что плохое, мол. Потому, что Мережковский ни описывает – всё им отрицается с помощью тут же (или через сколько-то страниц) найденной противоположности только что описанному. Вот – шабаш ведьм (во сне моны Кассандры). С одной стороны – все сношаются (и это плохо, так как личное это, и соответствующее авторское отношение выражено подбором слов – подчёркнутых мною): «В укромных местечках заводились любовные шашни – дочерей с отцами, братьев с сёстрами, чёрного кота-оборотня, жеманного, зеленоглазого, с маленькой, тонкой и бледной, как лилия, покорною девочкой, – безликого, серого, как паук, шершавого инкуба с бесстыдно оскалившей зубы монахиней. Всюду копошились мерзостные пары». Негатив. Но и высокие плотские отношения Кассандры с богом Дионисом не состоялись: «Обнажённый юноша Вакх открыл объятья Кассандре, и голос его подобен был грому, потрясающему небо и землю: – Приди, приди, невеста моя, голубица моя непорочная! Кассандра упала в объятия бога. Послышался утренний крик петуха». И шабаш мгновенно прекратился. Никаких слов с негативной аурой. Но. Не случилось. Плохо. Почему? – Ответа нет. А надо, чтоб озарило 3 раза: 1) грязное совокупление-то – личное, значит, плохое. Ибо категория «укромных», наверно, не слишком обеспечивает интимность, так как «Всюду» – это как-то видно всем. 2) Чистое совокупление – плохо-личное, что не случилось. (1) + (2) = 3) «Наше» не обеспечивается. Так озарение – это акт осознания. Оно у меня случилось из-за осведомлённости об угадке Бердяева. То есть без неё, что хотел автор, передалось бы только моему подсознанию. И, не исключено, что автором и сделано-то было всё, что мною чуть выше проанализировано, с подачи авторского подсознательного идеала: Третьего Завета. Считая «Ветхий» слишком плотским, а «Новый» – слишком духовным. Получается, что выдуманное невозможно назвать словами, строго говоря. – То есть – перед нами явная художественность. А читать – нудно!
Бердяев пишет, что мережковщину называли «интеллигентной хлыстовщиной» (Там же). Хлысты в совместном «самобичевании, кружении… доходят до состояния экстаза» (Академик).
Ещё один пример столкновения противоречий. Описывалось с нотками авторского отвращения мещаннейшее, торгашеское мысленное поведение Моро, решившего свести со света своего племянника, чтоб и официально, а не только практически, занять место герцога Милана. За это он шепчет обещание Богородице построить Ей большой храм. Усыпает. Видит во сне, как мирно живут его жена, любовница и та, кого он хочет взять в любовницы. – То есть, Богородицу торг устроил. Что отвратительно. А следом – тонкая снисходительность к одной безгрешной душе: «Башенные часы пробили полночь. Все в доме спали. Только на высоте, над крышею, на деревянных подмостках для золочения волос, сидела карлица Моргантина, убежавшая из чулана, куда её заперли, и плакала о своем несуществующем ребёнке; – Отняли родненького, убили деточку! И за что, за что. Господи? Никому не делал он зла. Я им тихо утешалась… Ночь была ясная; воздух так прозрачен, что можно было различить на краю небес подобные вечным кристаллам ледяные вершины Монте Роза. И долго уснувшая вилла оглашалась пронзительным, жалобным воплем полоумной карлицы, словно криком зловещей птицы. Вдруг она вздохнула, подняла голову, посмотрела в небо и сразу умолкла. Наступила тишина. Карлица улыбалась, и голубые звёзды мерцали такие же непонятные и невинные, как её глаза». И вера Моро, и вера Моргантины – плохие. Потому что личные. До чтения Бердяева я не мог объяснить такого столкновения противоположностей. Хоть и бросалось в глаза, что такой приём что-то должен означать.
«Личность может религиозно жить только в «мы», в религиозной общности, и только там ей открывается истина» (Бердяев). – А как же с армией детей, со Священным Воинством Савонаролы, крушившим всё новокультурное? – А это опять отрицание. Дети – недоличности. «Я сознаю себя в моём собственном теле – это корень личности; я сознаю себя в другом теле – это корень пола; я сознаю себя во всех других телах – это корень общества». Есть такая недопонятность в романе. Дети отрядами вышли на улицы бандитствовать, отнимать предметы роскоши (это если объективно): опрощать (если субъективно). Отряд Доффо наткнулся на роскошные носилки с красивой проституткой. «Священное Воинство окружило носилки. Предводитель одного из отрядов, Доффо, выступил, поднял над головой алый крест и воскликнул торжественно: – Именем Иисуса, короля Флоренции, и Марии Девы, нашей королевы, повелеваем тебе снять сии греховные украшения, суеты и анафемы. Ежели ты этого не сделаешь, да поразит тебя болезнь! Собачка проснулась и залаяла; мартышка зашипела; попугай захлопал крыльями, выкрикивая стих, которому научила его хозяйка: Amore a nullo amato arnar perdona. Лена собиралась сделать знак телохранителям, чтобы разогнали они толпу [воинствующих детей], – когда взор её упал на Доффо. Она поманила его пальцем. Мальчик подошёл, потупив глаза. – Долой, долой наряды! – кричали дети. – Долой анафемы! – Какой хорошенький! – тихо произнесла Лена, не обращая внимания на крики толпы. – Послушайте, мой маленький Адонис, я, конечно, с радостью отдала бы все эти штуки, чтобы сделать вам удовольствие, – но вот в чём беда: они не мои, а взяты напрокат у жида. Имущество этой неверной собаки едва ли может быть приношением, Иисусу и Деве Марии. Доффо поднял на неё глаза. Мона Лена, с едва заметной усмешкой кивнув головой, как будто подтверждая тайную мысль, проговорила другим голосом, с певучим нежным венецианским говором: – В переулке Бочаров у Санта Тринита. Спроси кортиджану Лену из Венеции. Буду ждать... Доффо оглянулся и увидел, что товарищи, увлечённые бросанием камней и перебранкой с вышедшей из-за угла шайкой противников Савонаролы, так называемых "бешеных" – "аррабиати", не обращали более внимания на кортиджану. Он хотел им крикнуть, чтобы они напали на неё, но вдруг смутился и покраснел». – Зачем этот рояль в кустах: шайка «бешеных»? Недопонятность… – Затем, чтоб показать, какое это ничтожество плоская масса недоличностей. Нет, они – сила. Вон, отняли и сожгли множество культурных ценностей. Но это – пока не нашлось на них контрсилы. Как в будущем, летом 1941 года, Мережковский, пусть и в фашистской Германии, увидел контрсилу на большевиков, делающих тоталитаризмом мир плоским, коварно тихонько думая (Мережковский думает), что эти две силы «уничтожат друг друга». Картина детского тоталитаризма получилась сильная. А шайка «бешеных» исчезла, как появилась. Тоже недопонятность. И тоже собою демонстрируя ничтожество.
И самого Леонардо да Винчи Мережковский сделал в чём-то похожим на этих недоличностей. Его, как и их, отвлекало абы что. Отличие, правда, кардинальное: кое-что Леонардо всё-таки сделал. Но. Его деяния есть отрицание формулы «я сознаю себя во всех других телах – это корень общества». Он же, по Мережковскому, не себя сознаёт в своих изобретениях и художественных произведениях, а «других», законы природы, просто отражает, как зеркало, сам не меняясь. Он откликался на любые задания, удовлетворял любых людей. Добрых и злых. Целая глава сочинена записок о нём его ученика, Джованни, в которых Леонардо выглядит какой-то Машей-растеряшей, хватаясь за разные задания и всё не доводя до конца. И в то же время Леонардо буквально самоуничтожался в каждом задании. Для того Мережковский не проакцентировал то непреходящее, что обеспечивает реальному Леонардо славу в веках и веках: ЧТО ЧЕМ он выразил в живописи. В частности, такое «чем», как сфумато (рисование так, чтоб изображаемое чувствовалось окружённым воздухом). Леонардо это было нужно для эффекта «как живое». В результате этого сфумато «Джоконда» в зависимости от прищура ваших глаз, – свидетельствует Чичерин, – смотрит на вас то вакханкой, то чистою. Вас ошеломляет, что она не просто как живая, но и читает ваши мысли. И всё низкое в вашей душе смущается. И вашему подсознанию передаётся идеал Гармонии. Совершенно потрясающее по тонкости переживание, передающееся в веках. А Мережковский это сфумато… упрятал среди других особенностей перспективы как пример самоуничтожения художника в функции простого зеркала. «…первая [особенность] – уменьшение вдали объёма предметов, вторая – уменьшение ясности цвета, третья – уменьшение ясности очертаний». Даже в части книги, называемой «Мона Лиза Джоконда», раньше Чичерина написав: «…живая мона Лиза кажется ему [Джованни, который тут как тут] менее действительной, чем изображённая на полотне», – то есть, понимай, что на полотне она как живая, – почему? – потому что разная при каждом другом прищуре глаз зрителя, Мережковский эту разность НЕ проакцентировал. Проигнорировать вакхический вариант впечатления от «Джоконды» Мережковский тоже мог. Он его дал в последней части своей огромной книги. И дал глазами сластолюбца французского короля. И там отчётливо слышен отвергающий такое восприятие голос, голос и автора в голосе персонажа-Леонардо: «– Да, друг мой, – прибавил [король] усмехнувшись, – ты знаешь толк в женщинах. Какие плечи, какая грудь! А то, чего не видно, должно быть ещё прекраснее... Он смотрел на неё тем откровенным мужским взором, который раздевает женщину, овладевает ею, как бесстыдная ласка. Леонардо молчал, слегка побледнев и потупив глаза. – Чтобы написать такой портрет, – продолжал король, – мало быть великим художником, надо проникнуть во все тайны женского сердца – лабиринта Дедалова, клубка, которого сам чёрт не распутает! Вот ведь, кажется, тиха, скромна, смиренна, ручки сложила, как монахиня, воды не замутит, а поди-ка, доверься ей, попробуй угадать, – что у неё на душе!» Но то – в конце книги, а пока… Акцентируется предельная точность изображения, вплоть до такого: «…сама живая мона Лиза становится всё более и более похожей на Леонардо, как это иногда бывает у людей, постоянно, долгие годы живущих вместе». То есть самоуничтожение Леонардо в точности изображения доходит до парадокса увековечивания своего облика. Для того же самоуничтожения Мережковский утрировал злое в двух примерах, что в начале статьи. Самого Леонардо нет. Он принадлежит не себе, а всем. А мало ли какие злые бывают среди всех. Но не такое «Наше» было идеалом Мережковского. А какое? Его словами можно выразить? – Наверно, нет. Раз он такую большую книгу написал, и всё там – пары «фэ», взаимно друг друга исключающих.
«Мережковский с отвращением относится к ищущим личной чистоты, к облекающимся в белые одежды, к стяжающим себе духовную силу» (Там же). Это касается Савонаролы, тот же считает себя единственным из людей аскетом, заслуживающим спасения. «Господи, ты свидетель, что я хотел поддержать моим словом эту развалину [развратную Флоренцию]». И не чувствуется авторского сочувствия, когда Савонаролу казнят за перегиб духовности (раз он чуда показать народу не хочет: «Не искушай Господа своего»). – А почему Мережковский так? Ведь Савонарола был за «Наше»! – Потому что Савонарола был за «Наше» в качестве аскетизма, которым он заразить хотел всех от себя. А это не то «Наше», которое должно родиться в душах всех в совместном религиозном действии. Откуда-то, по Мережковскому, ко всем должно прийти это «Наше», а не от одного. Символизм такой. Невнятный. Но объективный, а не субъективный. Из-за него Мережковский и в революцию было подавался раз. Мережковский с сочувствием описывает метания между Леонардо и Савонаролой ученика Джованни. Муки его. Сошествие с ума. Но! С ума Мережковский Джованни всё-таки сводит (вопреки судьбе реального прототипа этого персонажа). – Почему? – Потому что всё у Джованни (и леонардовское, и саванароловское) – личное. А не «Наше». Но «фэ» выдаёт Мережковский и по отношению к самодеятельности группы, например, к самоуправлению (республиканству) Флоренции. Вот уж, казалось бы, где есть нечто, идущее не из личности, общий интерес: «Само богообщение для личности возможно лишь через «мы», через религиозное общение с рождённой в Духе общиной. Бог открывается в тайне общения. Это подобно тому, как у французских синдикалистов истинное познание открывается в action directe [направлении действия] пролетариата» (Бердяев). Но куда там по книге-то… «Флорентийские граждане, потомки разбогатевших лавочников, вылезших в знать, избрали его в вожди Республики, как равного всем, как совершенную посредственность, безразличную и безопасную для всех, надеясь, что он будет их послушным орудием. Но ошиблись. Содерини оказался другом бедных, защитником народа… В республиканской честности своей он был сух, твёрд, прям и плосок, как доска, – столь неподкупен и чист, что, по выражению Макиавелли, от него "пахло мылом, как от только что вымытого белья". Желая всех примирить, он только всех раздражал. Богатым не угодил, бедным не помог. Вечно садился между двумя стульями, попадал между двух огней. Был мученик золотой середины». Неужели из-за материальности интересов и тут не вышло «Наше»?.. Или это свойство символизма – не видеть из «сегодня» и «здесь» свою столь удалённую цель?
Может, можно даже и не читать вам, читатель, саму книгу Мережковского. Примеры тончайших переживаний от разных кусочков её я вам продемонстрировал. Я считаю очень ценным уметь не только анализировать произведение, но и синтезировать то, что определило выбор художником того, что попало в анализ исследователя. Я поначалу предполагал, что Мережковский ницшеанец в последней тайной глубине. Но такому предположению текст сопротивлялся. Предположение моё, следовательно, было ошибочным. Тогда я стал искать, что другие сказали о Мережковском. Наткнулся на Бердяева и почуял, что его вариант верен. Что ж за ценность у моей статьи тогда? Бердяев ни разу не опустился до конкретики. А у меня она сплошь. Я старался быть доказательным. Потому что считаю это огромной ценностью. Особенно во времена информационной войны Запада и его российских помощников против России. Сам выбор книги Мережковского для разбора получился из-за одного из упоминавшихся помощников Запада – Дмитрия Быкова. Из-за его статьи «Дмитрий Мережковский. «Воскресшие боги», 1901». Насколько у меня всё написано так, что вы, читатель, можете во всём удостовериться сами, настолько у Быкова непроверяемые сентенции. «…такой писатель, как Мережковский, со всем объёмом сделанного им мог бы составить главную гордость любой европейской литературы» (Быков. Время потрясений 1900 – 1950. М., 2018. С. 23). Вам, читатель, чтоб принять это иначе, чем на веру, надо: 1) прочесть всего Мережковского и 2) прочесть всю литературу, как минимум, Англии, Франции и Германии. Или вот оценка разбора Мережковским «Анны Карениной»: «…самым точным, наверно, филологическим анализом… который был когда-либо дан» (Там же). Или: «…роман «Иисус Неизвестный»… ближе всего подводит к пониманию христианства» (Там же). Содрогаюсь, представляя себе, что Быков это пишет со всей ответственностью: столько прочесть!.. «Почему-то его [Мережковского] и при жизни, и после смерти гораздо больше переводили и читали в Европе» (С. 24). Чем в СССР? – Это очень может быть, раз он в 1919-м уехал из советской России и прожил заграницей столько же, сколько писал в царской России. Но впечатление-то, что Быков в курсе всех изданий этого автора. Нужно онеметь, если поверить такой эрудиции Быкова. А я не умею теперь верить на слово. Например, я знаю, что «Мастер и Маргарита» это роман о несостоявшемся, так сказать, третьем завете. Новый Завет извещал о равенстве всех людей перед Богом, а третий должен был засвидетельствовать равенство и на земле. Булгаков же засвидетельствовал, что с так называемым социализмом это не вышло, а выразил – своё сокровенное – что это когда-то в сверхбудущем выйдет. То есть «Мастер и Маргарита» не есть «роман о роли художника в мире» (С. 25), – как пишет Быков. Так если даже «полёт Маргариты восходит к четвёртой части «Леонардо да Винчи»» (С. 25), то то, КАК – вы сами выше убедились – Мережковский отрицает Леонардо (за не «Наше»), ясно, что роман «Воскресшие боги» не «о роли художника в мире». То есть верить Быкову нельзя. А он что пишет? «У Мережковского была своя совершенно чёткая историко-культурная схема: вот был Ветхий Завет – это правда закона, было Евангелие – это правда милосердия, а мы стоим на пороге третьего Завета, и этим третьим Заветом будет, видимо, Завет с культурой» (С. 25). Быков извратил Мережковского! Смешно, что я тоже считаю, что будущее человечества – коммунизм, и он как бы завет с культурой. Роботы будут обеспечивать материально, а жизнь людей будет жизнью в искусстве (творцами или сотворцами). Оно, искусство, способно особо волновать. И слаще этого у людей не будет занятия. Но, от того, что я так считаю, мне совершенно не нужно уходить от истины, что хотел «сказать» художник данным произведением. Какая разница, по каким протокам в дельте Волги течёт вода. Она всё равно в Каспийское море впадает. Всё равно течёт на юг. Даже если какая-то протока и течёт на север. Например, ерик Чаканный в каком-то месте (в красном круге).

Я не включён в жизнь. (Публикация в электронных журналах меня не кормит. Материальные потребности у меня мизерные. Я ни от кого не завишу. Мне можно быть объективным. Я уже практически живу в коммунизме. И мне не страшны исторические перипетии его становления в мире.) Я на точке зрения сверхбудущего. Иное дело Быков, по горло включённый в информационную войну. Его Мережковский интересует как писатель-антагонист основному, так сказать, руслу русской литературы времени Великой Русской Революции, – времени, которого не вычёркивает из истории путинская власть, видя для себя даже какую-то преемственность в том, что называли социализмом: «Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы» (Путин). Быков, наверно, имеет в виду что-то типа ареста Серебренникова, когда пишет, имея в виду Леонардо до Винчи: «Художник окружён зверством, но сам художник не отвечает на эти зверства» (С. 27). И Быков, например, в упор не видит те реалии, которые я вынес в заглавие статьи. Его даже нельзя упрекать в том, что он не ведает, что художественность не значит что-то передать буквами. Что темно, но известно каждому, у которого есть художественный вкус. Быков готов вообще на что угодно, лишь бы клюнуть власть. Вот я статью написал ещё и для того, чтоб напомнить: не верьте общим словам, не верьте бездоказательности. И мне не верьте во всех местах, где я срываюсь на бездоказательность.
То, от чего я отправляюсь, можно крупно оспорить. Я придумал себе что? – Что вечную жизнь произведению искусства обеспечивают авторитеты, если случается, что они тонко чувствующие люди, способны ощущать как наслаждение акт восприятия их подсознанием подсознательного идеала автора, оставляющего в «тексте» произведения следы этого подсознательного идеала. Это большая невнятность. Но авторитет их так велик, что молва, особенно об авторе скорее, чем о произведении, переходит из века в век. В поколениях за поколениями людей всё находится и находится несколько авторитетных человек, прочитавших «Илиаду» и «Одиссею» в подлиннике. И всё. Этого достаточно, чтоб имя Гомера гремело вот уж почти три с половиной тысячи лет. А всё потому, что он ритмом выразил магию достижения абсолютной свободы от обстоятельств жизни и вознёсся «над Добром и Злом». И – этот ницшеанский идеал иномирия, не будучи осознан теми авторитетами, тем не менее, обеспечил Гомеру принципиально по ницшеанству… недостижимое – Вечность. Которой сам Гомер субъективно достигал в момент создания своих песен. Леонардо да Винчи тоже, я думаю, достиг Вечности, выражая другой идеал – Гармонии низкого с высоким. Так надо, наверно, осложнить условия достижения Вечности. В мире должны сохраняться условия, обеспечивающие чутким авторитетам вчувствование в противочувствия от текстовых противоречий, – вчувствованию должны помогать реальные факты, имеющие место в мире: гнёт обстоятельств жизни (для вечности Гомера), моральные низость и высота (для вечности Леонардо). И вот тут – ловушка. Раз моральные низость и высота сохраняются в веках, то – можно думать – достаточно художнику применить сфумато (ну и психологическое оживление), и – готово! Он гений. И Вечность ему обеспечена. Ан нет. Уже ученики Леонардо, леонардески, славы гениев не имеют, хоть у них есть сфумато. Как из этого можно вывернуться? Возможно, спасение в дате создания. Возможно, объяснение в том, что духовное место в мире для картины всё время меняется. То (Гармония), что для Леонардо было актуально как жаркая надежда, как исторический оптимизм, для леонардесков уже жаркой надеждой и историческим оптимизмом не являлось. Авторитетам актуально стало уже выражение Позднего Возрождения (трагического героизма). И авторитеты леонардесков игнорировали. (И нам теперь, собственно, надо игнорировать за то же, глядя на дату создания). А не получается. Например, вы можете отличить Леонардо (1483–1486) от леонардеска Бернардино деи Конти (1500–1510)?  
Оба младенца аппетитные, так и впиться бы в них поцелуем… В эти пухлые щёчки. В эти пухлые ручки. А это ж… Бог. – Вот и Гармония низкого с высоким. Но всё-таки первый и аппетитнее и божественнее. И воздуха между Ним и нами у леонардеска меньше. Неужели за то их и игнорировали, за то и славы они не получили. И за то же копиисты всех времён потому же такую же, как авторы подлинника, славу у авторитетов не получают? – Факт – не получают. Вот и… Этим всем остаётся только впечатление не авторитетов. Идеалы-то в истории повторяются. Когда повторяется в какой-то стране время исторического оптимизма (например, в раннем СССР с его недавним зверством гражданской войны и раскручивающимся зверством сталинских репрессий), то у чуткого зрителя, знающего историю, был шанс пережить тончайшее переживание общности своего подсознания с леонардовским, глядя даже и на леонардесков. У меня лично такой шанс был в хрущёвскую оттепель (надежда исправить свихнувшийся социализм), но я, увы, тогда был в начале процесса воспитания в себе вкуса. А Мережковский в 1900 году, как символист, был под впечатлением полного краха всего более-менее прогрессивного («Комитет «Народной воли» существовал до 1884 г., но и после его разгрома продолжали действовать разобщённые группы народовольцев. 1 марта 1887 г. под руководством А. И. Ульянова было совершено неудачное покушение на Александра III»), от которого – от краха – бежать сокровенному Мережковского нужно аж в сверхбудущее. Как чуткому художнику, какого исторического персонажа нужно было взять по принципу «на пути наибольшего сопротивления» для такого тайного побега, бессловесного? – Исторического оптимиста – Леонардо да Винчи. – Вот он его, певца Гармонии, что есть равнодействующая противоречия «святая плоть», и взял – как одно из отрицающих противоречий – за личностность. (Другое отрицающее – склонность к научности, как бы к аморальности, не имеющей отношения к обычной-морали-обществизму {любимый позитивизм Мережковского не таков, он человечнее: «научные законы – всего лишь фиксация сосуществования между явлениями в наших ощущениях»}.) Если путинскую власть соотнести с историческим оптимизмом (при всём кошмаре непонятности, куда идти стране, погрязшей в каком-то первичном капитализме), то, похоже, время самое то, чтоб искренне восторгаться Леонардо да Винчи и отвращаться от надрывного из-за незнания мечтателя Мережковского. Быков последнее уловил, объявил и выступил на другой стороне фронта борьбы России за будущее.
Один поклон в сторону Быкова сделать всё-таки можно. Он написал: «Про Мережковского… самого любимого моего русского писателя первой половины двадцатого века» (С. 23). Скучность романа Мережковского происходит, не исключено, из-за того, что он требует от читателя огромных знаний. Например, так случилось, что я немного знал, что такое позитивизм (а выяснилось, что Мережковский им увлекался, и вдруг – революция физике, в, казалось бы, уже завершённой науке в 1895 году открыли неизвестные ранее рентгеновские лучи, в 1896 – столь же неизвестную радиоактивность; и пошло-поехало…). Мыслимо представить, что Мережковский пришёл в отчаяние. А как же с гармонией «между явлениями в наших ощущениях»? И то, и то – вне наших ощущений. Природе и истине на наши ощущения наплевать. Только зная об этом крахе позитивизма, до меня дошло, зачем появился в романе двойник Леонардо по научности – Макиавелли. – Леонардо – это научность в естествознании, Макиавелли – это научность в науке о государстве. И оба – неприятны Мережковскому за не «Наше». И, когда до меня это дошло – стало интересно читать: это укладывалось в картину, аналогичную той, какую образуют опилки железа в магнитном поле. Каждые две «фэ»-частички своей геометрической суммою ориентировок частичек указывают на магнитный полюс. Вот только, что хотел «сказать» Мережковский, так и остаётся неясным (что и пристало символизму). Так что если во всех скучнейших поворотах сюжета такая же глубокая подоплёка? – Тогда мне это скучно просто из-за моей малообразованности. Я – свинья, не исключено, перед разбросанным передо мною бисером. А Быков – нет. И только его политическая ангажированность заставляет его делать ошибки и даже терять иногда художественный вкус, вообще-то ему присущий. Может, потому в России Мережковского и не любят, как заметил ещё Блок, да и (если ему поверить) Быков: слишком для высоколобых он писал.
И, если уж всё начистоту, то и уверенность читателя во мне, если я её создал, надо тоже поколебать. Там, где Мережковский вводит в сюжет анатома Маркантонио, становится сомнительным его, позитивиста-автора, введение Леонардо-учёного как момента отрицаемого этим позитивистом. Потому что именно Маркантонио оказывается крайне бесчеловечным истины ради, а не Леонардо. Леонардо оказывается антагонистом Маркантонио. – Почему? «На последних пределах знания художник чувствовал тайну, которая сквозь все явления мира притягивала его к себе… Маркантонио также чувствовал тайну в явлениях природы, но не смирялся перед нею, и, не будучи в силах ни отвергнуть, ни победить её, боролся с нею и страшился её. Наука Леонардо шла к Богу; наука Маркантонио – против Бога, и утраченную веру хотел он заменить новою верою – в разум человеческий… Маркантонио, не желавший верить ни во что, кроме разума, испытывал порой смущение, почти страх перед этим вещим знанием, как перед чудом. Иногда художник говорил себе: "так должно быть, так хорошо". И когда, исследуя, убеждался, что действительно, так есть, то воля Творящего как будто отвечала воле созерцающего: красота была истиной, истина – красотою… Маркоантонио спорил, горячился, называл догадки эти бреднями, не достойными учёного и противными духу точного знания». Так чем красота не аналог гармонии «между явлениями в наших ощущениях» у позитивизма? Или Мережковский в этом месте совершил, наконец, ненаходимый Бердяевым (см. эпиграф) синтез? (Тем самым выйдя из художественности! Приходя к простой иллюстрации своего неохристианства. Тогда понятно и почему он имя Леонардо вставил в название. И почему в названии – воскресшие боги. Это не прежние, античные, чувственные боги, но одухотворённые христианством, то есть искомая «святая плоть»?) Я не знаю… Очень уж плоско. Или не очень? Если додумать… Символизм-то ко всеобщему добру в сверхбудущем приходит через сегодняшнее зло (см. тут). И потому зло может быть красивым. (И красота – объективна и есть то «Наше», что не из личного происходит.) Отчего Мережковский и навёл на Леонардо низменную напраслину, которую я цитировал из романа в самом начале статьи. Только для глубины, для художественности, для подозрения, что тут кроется след подсознательного идеала, надо что? – Надо счесть, что это всеобщее добро в сверхбудущем – всё-таки не находилось в сознании Мережковского. Или так: больше не находилось, чем находилось. – Как факт – эти многие «фэ»-противоречия. Но, увы, ещё больше в романе противоречий, в которых я только чувствую, что они противоречия, но не могу даже понять, чем. Например, противоречие ставшей странно-верующей моной Кассандрой, хотевшей примирить греческих богов и христианство, с Леонардо, примирившим-де их в красоте. А противоречие инквизиторов и ими преследуемых заявлено, но я не могу его как противоречие принять. «…ведьма всё ещё искала, может быть, недостижимого примирения, тогда как инквизитор раздувал огонь этой вражды и углублял её безнадёжность». Ощущение, что я умом ещё не развился, чтоб читать эту книгу и сплошь тонко переживать.
И всё же я позволю себе предложить своё толкование «Иоанну Крестителю» (1514–1516) и как-то отнестись к тому, как к этой вещи отнёсся Мережковский в романе.

По-моему, тут уже Леонардо да Винчи перешёл к стилю Позднего Возрождения, к трагическому героизму проигравшего борьбу за Гармонию. Низкое побеждает. И художник из последних сил бросает ему своё отрицание. Вакх – грозный в античности? Так на тебе – будь изнеженным, как женщина. И – улыбку в придачу, не чуть заметную, а явную, насмешливую в победе низа над еле-еле видным высоким (тростниковым крестом Крестителя). (На иных репродукциях креста даже и не видно. И Вакх просто насмехается над высоким, указывая на него пальцем, высокого, мол, даже и не видно уже практически.)

Но эта явность насмешки над невидящим креста грубым, чувственным зрителем, видящим лишь телесную красоту тела, есть неявная насмешка автора, недавнего певца Гармонии в неявной улыбке моны Лизы, – насмешка над грубыми людьми, побеждающими его, автора, в этой вот его кончающейся жизни (через 3 года он умер). «Погибаю, но не сдаюсь!» – как бы сказал нам Леонардо на прощанье. Мережковский, хоть и сделал своего короля Франции Франциска I заметившим крест, но и наградил его пошлостью, соответствующей нежности Вакха в первом впечатлении от изображения Леонардо. «Эта смесь священного и греховного казалась ему [Франциску] кощунственной и в то же время нравилась. Он, впрочем, тотчас решил, что придавать этому значение не стоит: мало ли что может взбрести в голову художникам? . . . . . . . Но что мог он [Леонардо] сказать этому человеку [Франциску], который превращал всё, к чему ни прикасался, в пошлость или непристойность?» Так вот, по-моему, пошлость Франциска в принижении высокого по Мережковскому заключается в... [...]
Автор и ведущий рубрики «Художественный смысл» –
Купить доступ ко всем публикациям журнала «Новая Литература» за февраль 2019 года в полном объёме за 197 руб.:
|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
|||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Насосы гидравлические разбор всех типов и видов насосов. . Черные медицинские перчатки - купить нитриловые медицинские перчатки www.deznet.ru. |
|||||||||||

