Михаил Ковсан
Повесть
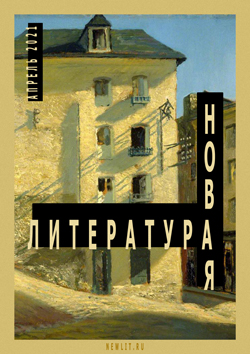 На чтение потребуется 1 час | Цитата | Скачать в полном объёме: doc, fb2, rtf, txt, pdf

– Не руби мне головы! – сказала Карен. – Тогда я не успею покаяться в своем грехе. Отруби мне лучше ноги с красными башмаками.
(Г.-Х. Андерсен. Красные башмаки).
Одни героев своих по зёрнышку выклёвывают отовсюду. Другие находят сразу готовыми. Эти доставались кусками, большими и малыми.
Написав, рассказчик читал первый раз, мучительно лишнее отсекая и связывая не связавшиеся концы, чтобы через день читать снова, незамеченное исправляя, а ещё через день, поддавшись ритму, скользить легко, почти без заминки, запятыми играя, методично перещёлкивая пальцы сперва правой, затем левой руки.
Однако же, к делу. Место. Гостиница: длинное одноэтажное здание, скажем попросту, красивый барак (если он быть может красивым). Входные двери из сада, над которым круто вздымались террасы, на них ветвились толстыми змеями остатки виноградников, издревле прославленных, ныне забытых. На противоположной стороне – стеклянная стена с выходом во внутренний дворик, вид, понятно, на море. Комната без затей. Приманка? Сад, от взглядов огороженный двор, запахи, музыка моря, солёная кожа: смывай не смывай – остается. И – виноградными спелыми гроздьями звёзды. Луна? Что-то очень яркое, то белёсое, то желтеющее, то золотистое. Можно, конечно, добавить валяющуюся бутылку, отбитым горлышком сверкающую при замечательно полной луне. Только бутылка – неправда. Персонал подобран давно. Работой своей дорожит. Чаевые – часть дохода немалая. Дворики, тентами укрытые от непогоды, мелкорешетчатые стенки, плотно, наглухо увитые зеленью, настежь распахнуты даже не самому чуткому уху. Все формальные разговоры – пару минут с женщиной немолодо симпатичной, рядом с которой свежайшая роза. Гостиница – вороньим гнездом на берегу отвесном над морем, над бездной. В противоположную сторону – оазис обрывается степью, желтоватой и пыльной. В безветрие, в спокойные, тихие дни стихия моря со стихией степи умилённо братались. Такой себе рукотворный рай, многоцветно узорчатый, комфортабельный, прилепившийся неведомо к чему между стихий. Не дешёвый. Да хоть какой, но – преследующий, тянущийся за рассказчиком следом, вмятины цвета глины сырой, засохшей и обожжённой нещадным солнцем, вслед его движению во времени оставляя. В одном месте гряду холмов, изборождённых террасами, разрывало плато, большую часть которого занимал огромный камень, скала, опиравшаяся о хлябь узким концом, словно невиданный цирковой, высокий, широкий, делал стойку на тщедушном мизинце. Нарушал ли огромный камень законы физики, как утверждали одни, или не нарушал, как доказывали другие, мало кого волновало. Тревожило: свалится он, колобком по террасам покатится, гостиницы достигнув, расплющит её, или же, мимо пролетев, свалится в море, поднимая волну, которая уцелевшую от падения камня смоет и унесёт в море. Понятно, камень, прозванный чёртовым, не мог не породить разных легенд, наиболее распространённая из них утверждала, что кто-то на кого-то бросил это чудо или ужас природы. Кто и на кого – варьировалось бесконечно. Старожилы утверждали, что раньше на широкой вершине скалы гнездились перелётные аисты. Но в последние годы прилетать перестали. Наверное, потому, что рождать детей в поселении под террасами уже было некому. Скала на пуантах: так он назвал её про себя. В последнее время рассказчик увлекался балетом и одной балериной. Зловещая, однако, метафора – мелькнуло и в знойном воздухе растворилось. Да, вот ещё. Далеко-далеко, не в ясную погоду не виден, полуразрушенный замок, из холма вырастающий, в котором в кровавые времена и не только вершились самые кровавые преступления в этих краях. Пейзаж ужасно фотографически в памяти остаётся.
Время. Горячее. Август. Жара. Огромные помидоры, брызжущие кровью красной не солёно томатной. Огромные луковицы невиданно фиолетовые. Огромные зелёные огурцы, хоть их-то огромность не красит. Огромные жёлтые дыни. Огромные арбузы зелёно-полосатые извне и красно-чёрно-крапчатые изнутри. Всё огромно и разноцветно. И – огромный светло-бежевый чемодан: новые постояльцы, лиц не вижу, оба роста весьма выше среднего, шорты джинсово до колен, ниже – крепкие светловолосые ноги, у того, кто шире и старше – потолще, у того, кто уже-моложе – мускулистые худощавые. Всему лобби радио рассказывает о реставрации – процесс долгий, нелёгкий, в высшей степени трудоёмкий – многострадальной репинской картины «Иван Грозный и сын его Иван». В тот раз сам Репин лечил. А теперь? Что за манера русских царей сыновей убивать? Иван – Ивана, Пётр – Алексея. Правда, Павла… Нет, дело тёмное. Презумпция невиновности. Может, что изменится на Руси, если царевичи начнут – типун на язык – папаш царственных убивать? Иду мимо. К себе. Если не считать дворика, номер обычный. С пейзажиком на стене над кроватью. Внимания не обращаю: день занят плотно – море, солнце, изобилие древностей. Для недогадливых: те, чьи лица замечены не были, герои рассказа. Иначе, скажите на милость, зачем было их рассказчику замечать? А затем, что те получают ключи от соседнего рассказчику номера, и так же, как все постояльцы, почти всё время, когда не на море, проводят во дворике: влажный живительный бриз, ароматы, музыка и прочее-прочее, в том числе разговоры соседей, не услышать которые невозможно. А если те от мыслей своих о прекрасном (других мыслей в это время никак не бывает) тебя отвлекают, можно в комнату удалиться, или наушники надеть или, плюнув, воспринимать чужие беседы как звуки морские. Если какая семантика в мозгу и застрянет, бог с ней. Мозг и не такое рассчитан. В первый же вечер, плавно в ночь перетекший, часть звуков сложилась в слова, а те – в совсем не подходящую месту и времени мелодраму. Отец и сын несколько дней как впервые увиделись. У папы с мамой, совсем ещё юных, случилась приятная мимолётность. Следы потерялись, не очень искались, недавно нашлись. Никаких, однако, трагедий: телевизору такое не интересно. Папа с мамой замечательно встретились, отец с сыном сдружились: ни комплексов, ни фрейдистских мерзостей всяких. Одним словом, так, как почти никогда не бывает: счастливое исключение. Не роман, не повесть и не новелла, так, по классику, сюжет для рассказа совсем-совсем не большого. Папа – режиссёр: театр и кино. Судя по тону, признанный, хоть и не гений. Сын хочет в артисты. Судя по мимолётному плану: вид сзади, вполне ничего. Хотя этот план, понятно, ничего не решает. У папы уверенный в себе баритон, довольно приятный (если читатель ожидал чего-то злобно-визгливого, то ошибся), у сына – баритон, почти доломавшийся, но с юношескими рецидивами, которые под виноградными звёздами часто волнение выдают. Хорошо-то всё хорошо, однако же, всё-таки: не было папы – и вот, к тому же режиссёр почти всё в жизни артиста решает. Думаю, «почти» можно без зазрения совести удалить. Кому бы запомнились те актёры, с которыми принц по собственной пьесе поставил спектакль, точней сказать, придворное представление? Похоже, ночь у соседей выдалась долгая. Встреча, спонтанное решение – к морю, перелёт – когда было поговорить по душам? Вот и летали за непроницаемой для взора стеной вопросы, увлёкшие даже рассказчика, которые бумерангом к задавшему возвращались. А ты что сделал? А ты что ответил? А тебе говорили? А ты почему? А ты? Так они рассказчика пинг-понгом и убаюкали. Последнее, что разобрал: «Пропала жизнь! Я талантлив, умён, смел... Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский...» И шёпот в ответ: «Что с тобой, папа?».
Ошибка. Это было отнюдь не последнее. Это было только начало. После немой паузы в соседнем дворике завозились. И вскоре: «Послушай, сын, хочу прочитать».
МНЕ НЕ НАЙТИ СЕБЯ В ГОМЕРОВОМ СТИХЕ
Мне не найти себя в гомеровом стихе, Словно России в хляби бесконечной, Как Блоку в уличной ночной тоске аптечной, Словно сверчку во тьме густой запечной, Несчастному в профессии заплечной, Как страннику, с душою налегке
Бредущему по временам пустым, Бесплодным, бессловесным, без надежды – Сыскать пристанище, пристойные одежды, Не гаже тех, не горше тех, что прежде, Когда из дома выскочил он прежде, Чем вспыхнуло и душу выел дым.
Ломилось солнце сквозь густую муть Зеркал, не терпящих чужого отраженья, Не выносящих чуждых взглядов жженья, Не принимающих скользящие круженья Плодов фантазии, воображенья, Увечащих невыносимый путь
Гомерова стиха во тьме времён, Во мгле просодии пропавших океанов, В сумраке лет, в беспечности туманов, В язвительной нелепости дурманов, В когтистой лёгкости мечтательных обманов, В коварной звонкости чудовищных имён.
Дождь пошёл ещё ночью. Во дворе на диванчике стало прохладно, да и капли начали долетать. Пришлось в комнату возвращаться. Привычный утренний пляж отменился, и после завтрака с Акутагавой я перебрался во двор: слушать дождь вместо моря. Но только казалось, что музыка дождя музыку моря для меня заглушила. Они слились, из соития в час Дракона дня Дракона года Дракона родился длиннолицый японский Дракон, названный (а вы чего ждали?) Драконом, всю жизнь размышлявший о самоубийстве и, в конце концов, принявший лекарство, понятно, смертельную дозу. Сперва были шорохи, шушуканье и шептание, но вскоре вместе с последними каплями дождевыми пробилось. – Смерть, любовь, а главное, ожидание смерти и жажду любви, ты всё должен уметь изображать своим телом: руками, ногами, глазами. Вообрази, увидь себя умирающим или любящим и телом своим повтори. Вот и всё. – А как же слова? – Слова? Текст держит актёра, не даёт говорить, заставляет себя вспоминать, отлучая от лицедейства. Слова нужны, чтобы о пустяках говорить. О важном молчат. – Как так? – Хорошему актёру они только мешают. Умирающий? Какие слова, когда тело от тебя отползает?! – Как слова могут мешать? – Как хорошему танцору! – Плохому? – Хорошему тоже мешают! Вот он и хочет отрезать, чтобы голос был высоким и сильным. Пошли в дом, а то холодно. Шуршание – кто-то из них, видимо, в тапочках. Шлёпанье – другой босиком. Хлопнула дверь, отрезая, и дождь, словно дракон, поглотил звуки моря, в дремоту меня погружая.
Там я медленно, в бесцветном беззвучии расплываясь, думал о смерти, любви, которые соединялись то в любовь к смерти с японским удлинённым лицом, то в смертную любовь – со славянским. Вокруг этих мыслей, не слов, но образов что-то вращалось, словно вихрь тащил с земли в небеса телегу с лошадью и влюблённых, убежавших от гнева родителей и, так получалось, выбравших смерть. В дрёму явь не слишком настойчиво звуками и запахом дождя проникала, словно лёгкая боль напоминала о жизни, зеркально смутные видения мои отражая. Ватно думалось о том, что я сам умираю ежемгновенно: что-то отходит от меня, отползает, как слова старшего младшему, которые стихли, исчезли; скорей всего эти голоса больше и не услышу. Даже вздрогнул (вероятно, от холода): значит, они умерли для меня? Ну и что? Почему они мне интересны? Больше моря интересны мне? Больше дождя? Что они там, в комнате делают? Спят? Продолжают разговаривать? Но о чём? Кто его знает, о чём могут они, сын и отец, разговаривать после врозь прожитой жизни. Кончится пляж, отель, дворик и дождь, разойдутся, и, может быть, больше никогда не увидятся. Отец заболеет – умрёт. Сын влюбится – не до отца. Или наоборот. Сын покончит с собой. А отец влюбится – бросит сцену и фильмы, уедет в деревню, в дикую глушь, обрастёт бородой, новыми детьми и о мёртвом сыне забудет. А тот будет долго болтаться в петле, никому не нужно холодный. Кому охота с повешенным, посиневшим, воняющим, кому охота возиться? Вот и мне, дрожащему от холода, не до него. Надо встать, вернуться в комнату, под одеяло залезть, Аутагаву мёртвого с собой от дождя унести: навес – крыша не слишком надёжная, осколки капель, разбившихся о забор, залетают. Если дождю длиться долго, то не только книгу зальёт: капли и камень долбят, не то что дворик, ветру открытый, что ему дворик, он, обратившийся в бурю, его в единый миг из земли вырвать способен. И где нынче сыщется бурш, полупьяно восклицающий про бурю и про желание с нею помужествовать. Где он, бурш дерптский, отважный, пьяный, румяный, да нет, не румяный, что он, мальчик вам, бурш краснолицый?! Вот и накаркал. Ветер рванул – навес хлопнул, будто выстрел раздался – ядро, свистя, полетело. На кого бог пошлёт! Так орали мы в детстве, ввысь камень швыряя. Интересно, отец его камень швырял? Мог бы в сына попасть. А сын? Чтобы упал на батяню – отнюдь не комбата, который, встав из могилы – осточертело быть мёртвым, ему двадцать три, пошёл, землю отряхивая, в ближайшую деревню на девок не только глазеть, но и до смерти любить одну за другой, за нею – третью, и так до бесконечности, пока в могилу свою не вернётся, землёй прикроется, чтобы холодно не было. В поле могила, не на кладбище городском, устроенном на века: слой за слоем, за жизнью новая жизнь, любовь за любовью, смертью смерть попирая.
– Это самая острая из приправ. – А где ты ел её? – В Индии. – А я в Индии не был. И вообще нигде ещё не был. Только в Турции, но это не заграница. Ну скажи, пригласи – я проснулся от их разговора – мол, давай вместе в Индию свалим, коровы священные, люди не очень, неприкасаемые, храм – пособие по любви, как он там называется, из Дели к Бомбею, и дальше направо. Не молчи, сраный отец, не молчи!
Ну что, сын, вскарабкаемся на виноградники эти, наберём косточек виноградных, и, как древние греки, пережжём, разотрём, и будет у нас с тобой чёрная краска рецепта древнего, позабытого? У нас с тобой – как прекрасно звучит. Пойдём? Неохота? На кой чёрт эта краска? Не знаю. Может, чтобы стихи зря не писались? Послушай.
Пережжём виноградные косточки, чёрную краску добудем, Контур углём на белой стене наведём, И отныне мы здесь незатейливо вместе пребудем, Пусть хоть контуром блёклым нелепым, однако, вдвоём.
И когда-нибудь руки хозяев дойдут до побелки, Даже контур исчезнет, с ним вместе и память о нас…
Чёрт, дальше не получается. Всё рифмы дурацкие в голову лезут, беспутные.
Чего я ору? Откуда мне знать его обстоятельства? Может, и это море ему досталось не просто. Тебе дело какое? Иди в комнату. Оденься. Прохладно. Тем более, пауза за стеной. Молчат. Вопрос молча задан. Ответ молча дан. Размышлять о том, что за вопрос, каков ответ, бесполезно. Но можно наудачу придумать. Угадать невозможно. И всё же. – А делал я то, что было возможно, там, где было возможно, и тогда, когда было возможно. Это ты понимаешь? – Наверное, понимаю. – Люди делятся на две категории. – Какие? – Одни моют руки. Другие… – Другие их умывают. – Тест точней ДНК.
Бывшие виноградники, оживающие от долгожданных пристальных ласкающих взглядов мужских, мокрые от дождя, расправлялись, принимая забытые женские очертания, тяжелогрудо и широкобёдро, как прошлое, нависая над настоящим. Экая прихоть бездумная. Подлинное – только сегодня, то, что вчера – уже не настоящее, а завтра – ещё. Вот между ещё и уже размещайся, степень вольготности рычагом темперамента регулируя.
– Ну что, попробуем? Как насчёт блица? Попробуешь изобразить? – Окей. – Ну поехали. Сладкий юноша! – Пожалуйста. – Старик. Горькослюнный вдовец. – Господи! – Кисло-сладкий пижон. – Получите! – Хищноокий покоритель сердец. – Нате! – Не перебарщивай. Нынче зритель догадлив. Полтора жеста – и всё понимает. – Хорошо, папа. Спасибо. – Развязная девица на выданье! – Это как? – Ну да, выданья теперь не бывает. Равно как и девиц. Извини, глупая шутка. Увы, справедливая. Чихнул и добавил: – На правду!
Дождь, перестав барабанить, молча сочился, перестав быть собой, быть дождём перестав, в водяную морось вялую превратился. И то сказать, нельзя же неистовствовать непрерывно.
– Скажи, кого в «Ревизоре» тебе бы хотелось сыграть? Точней, давай так: кого бы ты мог сыграть? Только Хлестакова не называй: лежит на поверхности – могу и хочу в едином флаконе. – А больше вроде бы некого? Все старые, толстые. – Почему же, брат, толстые? У автора ни про фигуру, ни про возраст персонажей не сказано ничего. Режиссёру – свобода! – А почему Хлестакова нельзя? – Потому что лежит на поверхности. Его все начинающие худые актёры играли. Ты попробуй что-либо иное, по принципу: сыграю, потому что не могу, не смею и не хочу. – Городничего? – Вот-вот. Почему бы и нет. Только в рейтузы живот не подкладывай. Своим телом сыграй. А ещё лучше – валяй городничиху! Или Марью Антоновну! – Ну, папенька, вы и скажите! – Вот-вот. Только жеманности на папеньку пересыпал. И перца и ванили – всего сыпать в меру!
Я пытался их, мужчину и юношу, выловить в холле, в ресторане, на пляже – не выходило. По отдельности мужчин и юношей – сколько угодно. Пары – увы, ни одной. Юноши с мамами, девушки с папами, дедушки-бабушки, всякой твари по паре, чистые, нечистые, какие угодно. Но мужчины с юношей не было. Как один издатель сказал, не формат. Может, и мне – мелькнуло – героев отформатировать, а то не ко времени и не к месту. Или место и время под них подобрать? Но какие? Не станешь же переделывать папу в Ахилла, а сына в Патрокла, чтобы гомеровым временам угодить и топосу Трои. Тогда пришлось бы книгу в книге писать про древних героев, любовников на все времена, тщательно пятки исследовать и пересчитывать троянцев, убитых Патроклом. Пишут, что двадцать шесть (не путать с панфиловцами, их двадцать восемь). Но как эпос в скромный рассказ поместить? Такого, начиная с Гомера, с которого всё начинается, никому не удавалось. Хотя старший герой молодому наверняка бы сказал: «По контрасту попробуй! Абсурдно, значит, реально!».
– Пойдём? – Хорошо. Всё на сегодня. Мой ученик превращается в блудного сына блудного папы. Пошли ужинать. Сегодня я угощаю. Бургундское? Устрицы? А к сырам – шардоне? До завтра подумай, как сыграть мужика средних лет, который через каждые несколько слов повторяет: в чём здесь прикол? Постоянно давится смехом, словно пар, смешочки из себя в собеседника выпуская. А что если бы не выпускал, если бы не в кого было? При этом не бомж. При этом писатель. Только не сломайся на этом. Кстати, ноги подрагивают, словно хочет сбежать. А глаза неподвижны. Чёрт возьми, я тебе всё рассказал. Вот разболтался, и досталось тебе всё на халяву.
Что он хочет от мальчика? Гения лепит? Или иезуитничает, актёрством мальчика совращая? Даже слепит, чего тот будет стоить без обжига? Развалится на куски. Бумс – маленьким молоточком по свинке копилочной. Полетели кусочки остренько, монетки звеняще. Откуда ему знать, что такое прожжённый мужик, множество гнусностей натворивший? А может, он его так с высоты своего опыта проверяет? Мол, есть искра божья – вперёд, мучайся сладостным лицедейством. А если только сонная мука – то отвали, другое себе поищи. Не ходил бы ты, Ванёк, в лицедеи.
– Что? Сразу? Сейчас хочешь попробовать? – Нет. – Что нет? Боишься? – Боюсь! – Чего? Кого? Меня? – Того мужика, писателя твоего. – Он не мой. – Ну ладно, всё равно я боюсь. – Ну, что ты, разве это так сложно? Я ведь не прошу тебя, мой милый Телемак, сыграть роль сына на моих похоронах.
Низко пролетел самолет, подслушанный диалог заглушая. А когда затихло, услышал я Бродского:
Расти большой, мой Телемак, расти. Лишь боги знают, свидимся ли снова. Ты и сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков. Когда б ни Паламед, мы жили вместе. Но может быть и прав он: без меня ты от страстей Эдиповых избавлен, и сны твои, мой Телемак, безгрешны.
Отношения? Сын. Никаких лермонтовских комплексов, дерзаний, терзаний, зависаний над бездной нетрезвых. Хотя… Зазубринки, шершавинки, скукожинки разные. Судя по брызгам разговоров, звукам, не всегда долетающим ясно, младший в постоянном движении. Даже сидя, то поводит плечами, то пальцы переплетает, то языком щёки выдавливает, чешется, моргает, прищуривается, вздрагивает, кончиком языка губы полизывает, морщит нос, беспрестанно болтая ногами. Отец. Папа с найдёнышем решил прогуляться, но очень скоро умудрённый режиссёр натолкнулся на юношу, из которого пытается сотворить лицедея. Рассказчик незаурядный. Спокойный. Без всяких фокусов: то шёпот, то крик. Как-то, я уже лечь спать собирался, его речь стала разборчивой. Пересказывал новеллу, которую перевёл, кажется, с французского, его друг. Перевёл, но печатать не стали. Заплатив, как положено, переводчику гонорар в половинном размере. Начало я пропустил, но, похоже, главное как раз... Треугольник: мужские короткие стороны, длинная – женская. Вначале короткие с длинной проводят ночи по очереди. Потом – первый раз получилось случайно – втроём. Жаль, развязки я не узнал: похолодало – вернулись.
– Будущее нависает тяжёлой скалой, а прошлое песчинками осыпается. – Ого, да ты, батя, философ!
– Не бойся меня, не дичись. Я ведь не тень отца – отец во плоти. Вот. Можешь потрогать. Только не здесь. Я щекотки боюсь. И в Бежецк тебя не ссылал. Так что Меншикова в Берёзове из себя нечего корчить. – С чего взял, что дичусь? А телячьи нежности не люблю. – Да уж с чего-то и взял. Ладно. К делу. Давай, сын, добудем ходули, научимся и будем расхаживать вместе, прохожих видом своим поражая. Идёт? – Зачем? Сегодня никого ничем удивить невозможно. Хоть голый ходи, хоть окровавленный, хоть какой. Ходули? Ха-ха-ха, удивил. Ты лучше мне расскажи… – Не договаривай. Этого я не могу рассказать. Не обижайся. – Ну и от меня не требуй. Ничего больше не буду рассказывать. – Я не требую. Не прошу даже. Ты же сам всё выложить хочешь, рассчитывая, что и я нараспашку откроюсь. Что за книга у тебя на кровати? – «Братья Карамазовы». – Что ещё его ты читал? – «Преступление» и «Подростка». – Вот и правильно. Зачем тебе наказание? – А тебе? – Мне? Что ты смотришь на меня, как на сбежавшего с каторги, осуждённого на неё за растление малолетней телицы от многодойной коровы, пасущейся на пастбищах тучных, отвоёванных во время тысячелетней войны у врагов рода людского? – Ого! Ты, наверное, можешь и матом. – Ещё как! Но это за деньги! – Славно, отец, хорошо. А теперь пошли спать. Вставай! Идёт бычок, шатается, вздыхает на ходу… – Э нет! Доска не кончится никогда! Не дождётесь! Не упаду!
Я на земле, у Ленина в Кремле, а ты в полёте, у Гитлера в компоте!
Сладковатый, тотчас себя выдающий даже через двор (курили в комнате подальше от глаз чужих, точнее, ноздрей), немножко дурманящий рассеянный дым. Кроме слуха неожиданно обоняние включилось в познание отношений, которые становились всё интересней и непонятней. С каждым подслушанным разговором казалось, что старший голос становится суетливей и панибратски, грубовато заискивающим. А младший – всё более нервным и ломким: вверх – вниз стремительно, без ясных причин. Впрочем, могу судить лишь по речи и, как оказалось, по дыму, а этого слишком мало. Вуайерист. А как если ушами и ноздрями исключительно соучаствовать?
– Это в «Балаганчике», у Блока, милый мой, клюквенный сок. Нынче кровь замещает томатный, густой, солью приправленный, не деликатный, грубо, варварски аппетитный. Ты что предпочёл бы, чтобы при случае тебе перелили: клюквенный или томатный? – Перестань. Лучше скажи, почему томатный клюквенный заменил? – Каждому времени – свой сок, особый. Одно дело не смертельно надо всем, над собой, прежде всего, посмеяться, другое дело – возненавидеть весь мир, с себя и ближних своих начиная. Смех и ненависть суть вещи не слишком совместные. Что-то мы с тобой накурили сегодня, хоть вешай топор. – Это ты накурил. Ты и вешай. Я только пару раз затянулся. – Ладно, я. А ты состриги свои длинные волосы, сын, завтра же состриги. – Почему? Говорят, мне идёт. – Состриги, волосы прекрасные свои, Авессалом! Авессалом, состриги! – Дались они тебе, батя. Сам, небось, когда-то такие носил. – Ну да. Когда были. Но – состриги! – Зачем? – Чтобы, дрожа, на ворота мне не подниматься и, плача, ходить, говоря: «Сын мой Авессалом, сын мой, мой сын Авессалом, кто мне даст смерть, я вместо тебя, Авессалом, сын мой, мой сын!».
Интересно, они подозревают о моём существовании? Задумываются, что их могут услышать? Или им всё равно? Невидимое – не существует. Или ни о чём, кроме друг друга, не думают? Весь мир провалился, а они даже чаю не пьют – возятся друг с другом, отвязаться не могут.
– Извини, сын. Я ведь в простое. Ничего, что можно продать, нет на уме. А то, что есть, не продаётся. То есть, мной продаётся. Никем не покупается. Может, ты купишь? Крутой арт фестивальный. Никто ни хрена не поймёт. Да и как понять, если автор не понимает. Не понимает – не хочет понять. И не может. Зачем понимать? Чтобы кому-то что-то где-то там объяснять? Простой – невыносимо. Ты вдруг подвернулся. Нет, не так. Друг другу под руку вдруг подвернулись, не дай бог, под горячую. Обожжёшься – чем будешь лечиться? Что делать, когда телефон не звонит, не звонит невозможно, до звона в ушах колокольного, пожар возвещающего? Не знаешь? Прыгать с бубном вокруг, силу спящую пробуждая. – А если нет бубна? – Без бубна – не жизнь. Без бубна – конец! Не только тебе – всей стране. А она, я тебе это поротым русским языком говорю, она блудливо не постоянна: то ли поэтому Константины в цари не проходят, отрекутся или умрут, то ли потому не постоянна, что Константинов в цари не берёт. Ладно, тебе этого не понять. Надеюсь, пока. Послушай другое. Анна Андревна говаривала: «Эти идиоты делают Рыжему судьбу». Я вслед за ней говорю: а этот делает историю окраине – Украине. Вот за это, царь-батюшка ненаглядный, вечная тебе аллилуйя. И почему окраина? Они – Русь. А мы – её восточная окраина бесконечная. И если, встав с колен, окраина прилично вести себя не умеет, то пусть стоит на коленях. – Давай, отец, пойдём спать. – Вечным сном? – Ну, папа! – Спокойной ночи. Пошли, сын, пошли.
Пытался себе их представить. Но, кроме режиссёрского-весьма-богемного и юношеского-слегка-растрёпанного обликов, не виделось ничего. А что если один из них или оба уродливы? Кривы? Носаты? Короткопалы? Черты лица правильны, но в отвратительное вместе сложились? Или просто-напросто обликом выдались серы? Мысль эта – знак: услышанным удовлетвориться. Не иди и смотри. Но – сиди слушай.
– Ты должен много знать обо мне. Ведь тебе заниматься моей бессмертной посмертностью. – Чаво? – Всем сёстрам – по серьгам! Каждой – по собственной правде. Ну, не сёстрам, сам понимаешь. – И маме тоже правду её? – Тоже. Её сам и придумаешь. Главное: с моей посмертной славы купоны стричь будешь. Обычно это вдовушки делают. Но за неимением гербовой… Ну, ну! – Папа! – Не хочешь купоны, не желаешь комиксы об отце после смерти его сочинять, ну, тогда постригись! – Ты это уже говорил. – А что, с тех пор ты постригся? Думаю, я обязан это сказать. И настойчиво. Мне отец всегда так говорил. А я? Я не был тем сыном, которого он хотел. – Но стригся? – Конечно же, нет. – Вот видишь! – Тогда постриг прими. – Ещё чего! Не дождёшься! – И зря. Теперь монахам всё разрешается. Не афишируя. Потихоньку. – А у меня тихонько не получается. – Во как! Повторю тебе: зря. Жизнь спокойная, сытая, интеллигентная. Вот нынче у нас один митрополит – киношного выпускник, а другой – консерваторский. Оба – кронпринцы. Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет? А Оську, брата меньшого, в тридцать седьмом расстреляли. За такие вопросы, я бы так сказал: неуместные. – Ты о чём? – Ты и этого не читал?! Во как! Ты, сын, даёшь! Кстати, на будущее бессмертное моё ты запомни: сопли в сахаре лучше всего продаются. – К чему ты ведёшь? – А к тому, что во время этого ей положено восторженно, закрыв глаза, лепетать, а ему молча, с открытыми глазами её до лепета доводить. Так? – Ну да. – А как будешь делать? – Молча до лепета доводить. – Зачем? – Чтобы было правдоподобно, и зритель себя мог с героем отождествить. – Наотождествлялись. Давно надоело. – Так как? – С точностью до наоборот! Он должен, от удовольствия зажмурившись, лепетать, а она его – молча до лепета доводить! Лови кураж и давай! – Кураж – это как? – Это так. Кураж – это кураж! Когда нет – значит, нет. Когда есть, тогда да. Ясно? – Вполне. – Экий ты, брат, колобан! – Чего это такое? – Колобок такой, с тебя ростом. Метр восемьдесят? – Семьдесят девять. – А писька?! – Ну, папа! – Извини. Пошутил. Глупо. Я ведь только к тебе привыкаю. Ни гроша – и, вот, нате: алтын. Сто семьдесят девять. Пятьдесят девять кило, и то если в трусах. – Шестьдесят шесть. Без трусов. Я фиговые листочки ношу по моде последней. – Гляди, ты ужасно продвинутый. Кто мог бы подумать. – Может, кто-то и мог, но явно не ты. – Почему? – Ты же не знал, что я существую. – Теперь вот знаю. И как отец сына тебя, мой друг, поучаю. С жопами дел не имей: проблем, как собака блох, наберёшься. Попки – гораздо лучше. Но с попочками их не сравнить. – Лучше ваших паучат поучайте. – А у меня других нет. Ты и есть мой маленький въедливый паучонок, разные глупые слова высасывающий из меня. Или, может, ты гадливый утёнок, мои тайны выклёвывающий?
Происходящее в соседнем дворе напоминало недоозвученный фильм, ещё к тому же не снятый. Изображение тупо однообразно. Шорохи, кашель, скрипы, слова. И всё это без музыки, однообразно и тошно. Южная летняя терпко-сладкая обнажённость, распахнутость тел, окон и чувств: опасно, прекрасно, часто – незабываемо, и глупо, до невозможности глупо. И даже в этой раскрепощающей южности чем дальше, тем чаще я спрашивал: неужели я не ослышался, неужели диалоги отца с сыном услышал, пусть даже недавно нашедшихся, не слишком свыкшихся с новыми ролями своими?
– Хочешь услышать запах моей скисшей эпохи тоскливой? Понюхай меня! – На кой мне эпоха твоя вместе с вонью её. – И со мной?! – Прекрати! – Скажи что-то хорошее папе. Покриви душою немножко. И ещё. Без всякой с чем-нибудь связи. Я жить калекой не буду. – Папа! – Ну что от меня ты хочешь взамен за кусок жизни, прожитый без меня? Мне и самому хочется его скорей до конца перелистнуть. Что? Чтобы я сжёг на глазах твоих второй том? Согласен! Только дай мне его сперва сочинить! А потом мы вместе, сын мой, сожжём! Ты камин разожжёшь, а я рукопись брошу. Или нет. Разжигать буду я, а ты бросишь. Гореть будет весело, словно костёр погребальный. Как тебе мизансцена?
Рассказчику эти репетиции или, лучше сказать, актёрские пробы в новинку. Последний раз на репетициях он бывал перед школьным спектаклем, где, как теперь понимает, отмазанного ото всех грехов Лермонтова безбожно глупо играл. С тех пор много воды утекло, в том числе и с террас виноградных. А в театре не помнит, когда в последний раз был, балет предпочитая. В кино не ходит: попкорн раздражает. Откуда я знаю? Про него знаю всё. Чем захочу – поделюсь.
То, что слышал, интересное и не очень, против воли ко мне приходило: не станешь же в жару в душной комнате закрываться или уши во дворике затыкать. Это раздражало, однако, признаюсь, во-вторых. А во-первых, раздражало, что услышанное в единое целое никак не слагалось. Пусть иллюзорное – кто степень целостности, границы его определит? Может, на один слух полагаться не стоит? Может, надо, если не увидеть их, папу и сына, то, по крайней мере, попытаться представить? На эти вопросы ответа я не нашёл. А теперь уже поздно. Подобный случай, подобные обстоятельства вряд ли когда-нибудь выпадут снова. Иногда перебранки случались: отец – уверенно, басовито, спокойно; сын – на фальцет соскальзывая, нервно, визгливо. Но – ненадолго. Быстро мирились: «Мири-мири навсегда, кто поссорится – свинья», прошлое возмещая.
– Э, нет! Твоя правая рука не только должна знать, что делает левая, но и про всё остальное. Вначале все движения сочини, а потом исполняй! – Папа! Достал! Давай сходим на море! Может, там мне расскажешь, над чем сейчас ты работаешь. – Потом. – Что потом? Расскажешь или пойдём? – Всё потом. И расскажу и пойдём. Только рассказывать нечего. Нынче груши я околачиваю. Перестану, тогда и пойдём. – Когда потом? Я устал от тебя. Отстань от меня! – Не могу. Мы с тобой светотень. Ты – свет. Я – то, что осталось. От обеда, от жизни, от светотени. – Папа! Ну, хватит! – Ты всегда будь рядом со мной. Тогда и я, твоя тень, тоже быть буду. Быть буду. Буду быть. Так можно сказать? А хоть бы и нет. Сказал – значит, сказалось. Сказалось, значит, правильно. Значит, так можно сказать. Можно, сын? – Можно, отец. – Послушай меня. В актёре должны отгадать героя, как в луже растаявший снег, как в данте-адовых деревьях – людей. Что скажешь? – Ничего не скажу. – Почему? Ты не существуешь, если не мыслишь. – Отец! Ты мозг мне выносишь! – И ладно. Было бы что выносить! Подойди сюда. – Зачем? – Подойди. – Ну вот, господин генерал. Ты доволен? – Надо тебе, упрямец, бритву купить. Какой-нибудь «Филипс». – Не мог просто сказать?
Слушая их не слишком, правду сказать, интересные диалоги, я уловил настойчивое, может, и не осознанное желание отца, нагнетая слова, которые только отец может сыну сказать, прорвать упрямую оборону. Ну да, обо всём, о чём сын с отцом говорят, говорят и они, ну да, друг друга, как отец с сыном, они не стесняются. Но очень похоже, что не только отец, но и сын, приблудившись друг к другу, кружат над преградой невидимой, стремясь её перепрыгнуть. Конечно, Бог в помощь, только очень сомнительно, что получится. Не стоило бы торопиться. Однако, с другой стороны, тише едешь – не факт, что доедешь.
– Ты в церковь ходишь? – Нет, не хожу. – Ходишь в мечеть? – Не хожу. – В синагогу? – Нет. – К буддистам? – И к ним не хожу. – Куда же ты ходишь? – Никуда. Я летаю. – На чём? – Я, папочка, на жёлто-голубом шаре летаю. – На жёлто-голубом почему? В знак солидарности? – Другого не было в магазине. – К кому сын мой летает? К подруге? – Конечно. – А может, по нынешней моде, к подругу? – Я, папуля, от моды не отстаю. – А когда летаешь, надевать не забываешь? – За кого, батяня-комбат, ты меня принимаешь? – Покупаешь? – Нет, тятя, мне мамочка вместе с памперсами покупает.
Что бы кто из них ни сказал, в скобках было другое: пустоты, обрывы, зияния – всё, что сумели смолчать. Такая себе двухголосая опера трагикомическая для папы и сына без хора и без оркестра со звуками медленного курортного бытия, которые, их уединение окружив, обнажили. Такие себе Версилов и Аркадий, увы, Долгорукий. Порой за перегородкой возились: шаркали, сопели, кряхтели, видно, боролись, восполняя то, что в положенное время они не успели. А отдышавшись, тут же без перехода к прерванной репетиции возвращались. – Сейчас упражнение на синонимы. – Это зачем? У артиста текст, который надо лишь выучить. – Милый мой, нынче Шекспира сокращают и поправляют. Текст? Ты о чём? Вот, давай блиц. От меня ситуация – от тебя обращение и тело, обращению и ситуации соответствующее. – Ресторан. Фраки и бабочки. – Отец, услышьте меня наконец. – На брёвнах, в деревне, попилили и порубили, стружки понабросали. – Давай, батя, закурим. – Дома. Жарко. Пьём водку в трусах. – Обижаешь, папаша. – Неважно где. Скорей всего, на природе. О смертельном диагнозе тебе сообщаю. – Папа…
Часто над двориком поднимались дымки. Оба курили. Порой бульканьем сопровождалось. Иногда дымки восходили близко-близко друг к другу, в единый широкий дым единясь. Но всё чаще они, далеко друг от друга возникнув, поднимаясь, ещё дальше удалялись один от другого. И – раздавалось: – Как тебе такой моноложец? Какой русский не любит жить вне России? Какой русский не любит её оттуда любить? Какой русский не любит любить её, самозабвенно любя? Какой русский не любит любить? Повторишь? Тут целую историю можно сыграть. – Не охота. – А это? Каждый раз в полнолуние чёрный кот и чёрная кошка являлись на арочной перемычке ворот и не кошачьими голосами, никаким не мяуканьем, но трубным воем возвещали начало. – Не буду. Отстань. Не пойду в театральный. Ни хрена из меня не получится. – Ерунда. Глотни, успокойся. – И глотать не охота. – Тогда послушай стишки. И в такт покривляйся, чтобы было понятно, кто стишки эти слушает. – Послушаю. Но кривляться не буду. – Ладно. Такое.
Не отряхнув Отрепьева с судьбы, Россия самозванцами кичится…
Чёрт. Как там дальше? Забыл. Ладно, вспомню, тогда добурчу. Как тебе? Начало понравилось? – Не знаю. Сигареты кончаются. – Возьми карточку. Выйди, купи блок, чтобы не бегать. – Докурю и пойду. – Вот ещё вспомнил. Послушай.
У зеркала лицом к лицу С сермяжным дьяволом неволи…
Чёрт. Не выговаривается сегодня никак. Видимо, время поэзии кончилось. Жара погубила. – Может, водка? – Тогда уж виски, мой любимый сынишка. – Я пошёл. – Ты куда, малыш? – В никуда! – Когда вернёшься, грубиян? – Никогда! – Не оглядывайся назад! – Иди, папочка, в зад! – Что ты мне эхом? Хоть бы что сам сказал, хоть бы сам что-то спросил. – Что? – Что угодно. Хотя бы то, чем встреча с дьяволом кончилась. – Папа! Ты бредишь! Ты болен?! – Господь с тобой. Здоров. Я просто шучу. Экий ты алалай. – Кто такой алалай? – Ненормальный. – За это спасибо.
В этот раз младший говорил слишком тихо... [...]
Купить доступ ко всем публикациям журнала «Новая Литература» за апрель 2021 года в полном объёме за 197 руб.:
|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
|||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Интернет маркетинг медицинского центра pulsio.ru. |
|||||||||||

