Мария Купчинова
Рассказ
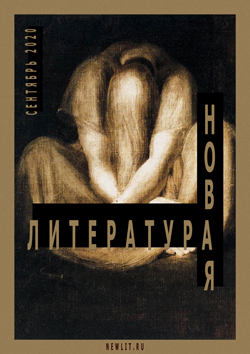 На чтение потребуется 40 минут | Цитата | Скачать в полном объёме: doc, fb2, rtf, txt, pdf

1
У самой кромки воды – белый пластмассовый стул. За стулом – отвесная каменная стена, где в редких расщелинах между плотно пригнанными друг к другу валунами растёт дикий виноград. Наверху утёса – маленькое кафе, хозяин которого, крепкий краснолицый мужчина лет пятидесяти с яркими синими глазами, поставил для меня этот стул. Он же помогает мне спускаться вниз по отшлифованным ветром, морем и временем каменным ступеням… Вообще-то я могла бы спуститься сама, но, с точки зрения хозяина, я – редкий бьющийся антиквариат, и ему не хочется собирать осколки на своей территории. Что тут скажешь… У каждого возраста – свои преимущества. Сегодня море спокойно. Зеленовато-серое, оно лениво плещется, омывая покрытые водорослями прибрежные камни. Чуть дальше от берега – большой валун. На нём – чайка. Мне кажется, это Андрей прилетел поговорить со мной. Хотя сейчас он отвернулся и смотрит вдаль… Туда, где, синея и темнея, поверхность воды соприкасается с небом. Запах нагретого солнцем моря перебивает аромат духов. Но каждый раз, собираясь посидеть у кромки воды, я наношу на запястье каплю из маленького чёрного флакончика. В то последнее лето Андрей привёз мне эти духи из Франции, и с тех пор я пользуюсь только ими – «Memoir Woman». В них «мандарин и полынь, гвоздика и ладан, пьянящая радость любви и горечь долгой памяти, то краткое мгновение, когда солнце уже село, а ночь ещё не настала…», – так написано в описании аромата, и это всё правда. К морю я прихожу за воспоминаниями… Есть ли что-то более дорогое в мои годы?
С Андреем мы встретились во дворе дома, на детской площадке. Впрочем, «встретились» – всего лишь вежливая форма, можно было бы написать «столкнулись», а можно и просто «я взяла» (в каком-то старом фильме у героини была реплика: «Смотрите, какого замечательного мужчинку на улицу выкинули»). В тот вечер Андрей совершенно не собирался встречаться со мной. Он лежал в чёрном пальто на скамейке возле песочницы и, скрестив руки на груди, читал Фета. У сильных женщин тоже есть слабости. Моя слабость – Фет. Все мои мужчины любили Фета, а я любила их. На детской площадке было темно, тихо и холодно. В окнах квартир, где мамы укладывали спать непоседливых ребятишек, гасли огни, редкие прохожие торопились по домам, не задерживаясь возле любителя стихов, от которого за несколько метров несло перегаром, и только мне, как обычно, было больше всех надо:
– Мужчина, вы здесь замёрзнете.
(Терпеть не могу обращения по половому признаку, но ни на товарища, ни на господина лежащий не тянул). Андрей распахнул свои голубые глаза и разразился:
– Тоскливый сон прервать единым звуком, Упиться вдруг неведомым, родным, Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, Чужое вмиг почувствовать своим…
Помолчал, вздохнул:
– Возьми меня к себе, добрая женщина…
Как же, сейчас… Но, если быть откровенной, я всю жизнь покупалась на подобные подначки. И лицо Андрея было таким беззащитным… Словно дразня, пошёл снег. Снежинки, покружившись в воздухе, медленно опускались на чёрное пальто, таяли на скрещённых руках, лице…
– Встать сможете? – А надо?
Дворник Степаныч тащил Андрея на себе, осуждающе качая головой:
– Уж больно ты, Эмилия Казимировна, добрая. Неужто незнакомого в дом пустишь? Ну, если хочешь, пусть на лестнице переночует. В квартиру-то не советую. Не кот всё-таки…
Следом я волокла оказавшийся под скамейкой футляр с баяном. Кота, кстати, я тоже пустила в дом. Он забирался на когда-то посаженную мужем яблоню и стучал в окно. Запрыгивая в форточку, сразу направлялся к миске, потом отдыхал на подушке и возвращался во двор. У него были свои, кошачьи дела… Нет, я не была дурой, и в дом пускала не всех подряд, но то, что этих двоих надо было пустить – я знала. Как знала цену вовремя поставленной миске, теплу и одиночеству…
Кот почему-то сразу признал Андрея хозяином, сел рядом и даже попытался залезть мордой под ладонь, позволяя чесать за ухом. Мужики…
Утром Андрей вздыхал:
– Запятнал твою репутацию…
А я смеялась:
– Мне самой наскучила её белизна…
В то утро я вдруг опять научилась смеяться. Без повода, просто так. Радовалась солнцу, заглядывающему в окно, смущённым глазам Андрея, коту, который всё-таки позволил себя погладить…
Андрей был неразговорчив, о себе почти ничего не рассказывал, зато умел слушать.
– Миля, прости за дурацкий вопрос: тебе сколько лет? – В отличие от тебя, я родилась при царе Горохе…
В тот день мне исполнилось шесть лет. Мама испекла пирог с яблоками, я нарядилась в синее платье с белыми горошками и побежала в соседний двор, к лучшей подружке: похвалиться, как крутится колоколом широкая юбка нового платья, и позвать в гости. Но Алеське было некогда восхищаться: в старенький фибровый чемоданчик она складывала кукол, игрушечную посуду, тряпичного мишку. А тётя Павлина, её мама, несмотря на летнюю жару, разожгла печь и одну за другой бросала в топку какие-то бумажки. От сильного огня в печке лицо тёти Павлины было почти бордовым, дым вышибал слёзы… Мне стало её так жаль, что захотелось помочь. Но тётя Павлина выхватила из огня брошенный мною мелко исписанный листок: «Нет-нет, это письмо Адама». Оказалось, дядю Адама, Алеськиного папу, зачем-то куда-то сослали, и теперь Алеся с мамой едут к нему.
– Надолго? – На пять лет…
Кто знал, что пять лет растянутся больше чем на двадцать. Это теперь понятно, что тем, кого в тридцать первом году приговорили к ссылке по сфабрикованному делу «Союза освобождения», в какой-то мере даже повезло: их не расстреляли в тридцать седьмом. Правда, дяде Адаму дали ещё один срок, потом другой и реабилитировали только в пятьдесят пятом. Когда в октябре тридцать седьмого арестовали моего отца, мне было двенадцать, и я уже всё понимала... Выстаивала вместе с мамой длинные очереди, чтобы хоть что-то узнать о его судьбе, но с нами отказывались разговаривать и передачи не брали: родители, занятые делами, не удосужились расписаться…
– Не обижайся, просто мне всё время кажется, что ты – моложе меня.
Бедный мальчик. Мне ведь тоже так казалось. Он не умел радоваться жизни. Совсем. Всё перечислял свои беды: развёлся с женой, не дали места в общежитии, уволили из оркестра… Эти послевоенные мальчики так ранимы… Им кажется: мир должен вращаться вокруг них, добрых, талантливых. А мир почему-то не хочет…
Андрей подтянул на диван ноги, обхватил колени руками. Длинные руки, длинные ноги, смешные оттопыренные уши… Почему-то мне он напоминал щенка-переростка: ещё хочет играть, но, заигравшись, может и укусить, а в поисках защиты подожмёт хвост и спрячется за тебя…
– Миля, остановись, не мельтеши перед глазами. Ты всё время что-то делаешь. Давай поговорим… Почему ты смеёшься?.. Нет, мне нравится, когда ты смеёшься, но почему? – Ты похож на мою маму. Она тоже так говорила: «Миля, не мельтеши…» – Расскажи про маму. Какая она была? – Стильная. До последних дней – клетчатое кепи, шарф, обувь на высоком каблуке. Ходила быстро, всем улыбалась. Мужчины – заглядывались и часто теряли головы. Тебе она бы понравилась… – Мне нравишься ты. – Тоже неплохо.
Вдруг начал суетливо собираться.
– Куда ты? – Опаздываю. На работу пора. – Ты говорил, тебя из оркестра уволили. – Жить ведь надо. В другом месте теперь играю.
Почему-то долго, не попадая в рукава, надевал пальто. Нахлобучил на затылок маленькую вязаную шапочку с помпоном, поднял футляр с баяном… Взялся за ручку двери и нерешительно обернулся:
– Можно мне вернуться? – Трезвому – да. Придёшь пьяный – выгоню. – Постараюсь. Я вообще-то не алкоголик, Миля. Просто всё так сложилось…
Мама, мамочка… Алеська однажды упрекнула нас с мамой: «Вы не знаете, как было там». Но и она не знала, как было здесь.
Мама выросла в зажиточной семье. Хотя к моменту моего рождения всё, что осталось от зажиточности – это ломберный столик красного дерева, два облезлых кресла и лёгкое презрение ко всему «практичному», то бишь, зарабатыванию денег. Единственное, что мама умела – вязать крючком замечательные кружевные воротнички и салфетки. На деньги с их продажи мы жили после того, как арестовали отца. Мама вязала, я продавала на рынке то, что не разбирали знакомые и соседи. Сначала стеснялась, потом научилась громко расхваливать товар, зазывать покупателей, придумала, что я в театре, на сцене – играю роль…
Начало войны запомнилось заревом в полнеба, чадом и дымом, разъедающим глаза. Мы уходили от огня по шоссе, а за спиной полыхал город. Мама решила, что войну – месяц, другой – надо переждать на хуторе, у бабы Стефы, папиной мамы. Правду сказать, мы её и не знали толком, лишь изредка обменивались письмами. В каждом она спрашивала о сыне, а мы не знали, что отвечать… За несколько суток, плутая по лесным тропам, пытаясь, где можно, обходить болота и большие деревни, каким-то чудом добрались до хутора со странным названием Никитов Тупик. Какие там каблуки… Мама чуть не сразу в лесу на сучок напоролась – нога в кровь, подошва туфли платком подвязана, а я с ног до головы в тине, на одежде разводы грязи, босиком: сорвалась, прыгая с одной болотной кочки на другую, и утопила сандалии. Пришли – во дворе телега, дверь в хату нараспашку, и какой-то мужик из дома узлы таскает.
– Беженцев на постой не берём. – Мы родственники. Я – невестка Стефании Григорьевны, это моя дочь. – Невжо? – дядька бросил мешок на подводу, огромной чёрной ладонью поскрёб затылок. – Непутёвого Казьки жена, что ли? Вовремя подоспела. Стефа-то вчера преставилась, я и похоронил её. Отпели, по чести, как полагается, так что с тебя, невестушка, не обессудь, деньгами не возьму, они что пыль теперь, а вот золотишко какое имеется – им рассчитаешься…
Мама плакала. Я возненавидела этого дядьку Дениса больше жизни. Он вывез из дома всё, что только было возможно: одежду, домашнюю утварь, какие-то продукты – остались только голые стены да брошенный на пол рваный тюфяк… Выбора не было: пришлось идти по ближайшим деревням побираться. Все романсы, которые слышала по радио, перепела. Танцы – под собственное пение на ходу сочиняла… Кто прогонял, а кто и на пару картошин да на кусок хлеба раскошеливался. Мама из соломы лапти сплела. Какие-то тряпки вместо чулок накрутили, верёвочками привязали – уже и не босиком по осенней распутице… В этих лаптях, взмахивая маминой юбкой, я гордо поводила плечами, сверкала глазами и, как мне казалось, неистово возносила руки к небу, изображая испанское фламенко… Одна бабуля так расчувствовалась, что подарила вытертый плюшевый жакет дочкин, да платок штапельный. И то сказать, ночи холодные уже стояли, зима близилась…
Самое страшное воспоминание – даже не то, как поймали в городе во время облавы и в Германию повезли, а как дядька Денис в лесу подкараулил. Он давно на меня поглядывал, я сторонилась, но тут… как его дикие глаза увидела – поняла: изнасилует – не жить мне больше. В болото кинулась, с кочки на кочку… Под ногами – шуршание, слабый треск и алые всплески… Клюква в тот год уродилась. На клюквенном соке он и поскользнулся. Кричал, просил спасти, а я рот кулаком заткнула, чтобы не закричать, присела, спрятавшись за вывороченными корнями поваленного дерева, и не вышла. Никогда никому, даже маме об этом не рассказывала.
2
«Другое место», где играл уволенный из Оркестра народных инструментов Андрей, радовало акустикой, но продувалось насквозь. Я в этом убедилась уже следующим вечером, спускаясь в метро после занятий с заочниками. Подземный переход, соединяющий вход в метро, выход к филармонии и к площади, на которой стоит наш Университет культуры, обволакивало танго. Упругие аккорды, повторяясь, держали ритм. На эту ритмическую ось как лента накручивалась томная, щемящая мелодия либертанго. Музыка Пьяццоллы будто создана для русского баяна, но такую аранжировку я слышала впервые. Судя по всему, музыкант импровизировал и вдохновенно держал слушателя на пределе томления, профессионально оттягивая момент, когда наконец мелодия взорвётся тоской и страстью. В просвете между спинами собравшихся слушателей – Андрей. Пальто брошено на футляр баяна, глаза прикрыты, растянутые меха – словно распахнутая душа.
В мелодию ворвался сиплый мужской крик:
– Когда этот цирк закончится? Сколько можно?
Со стороны филармонии по ступенькам скатился колобок в расстёгнутом пальто и широкополой шляпе набекрень. Ввинтившись в толпу слушающих, застопорил бег перед баянистом, обернулся, отыскивая взглядом не слишком рьяно поспешающего молодого милиционера:
– Сержант, немедленно прекратите этот балаган, вы же видите, он нарушает общественный порядок. – Пока не вижу, – милиционер смущённо откозырял. – Предъявите документы.
…Дома я возилась с ужином, а Андрей хохотал, не останавливаясь:
– Ты этого сержантика ласково и неотвратимо так, словно удав, взяла под ручку, с высоты непонятно чего бросила: «Продолжайте играть, Андрей», – и долго размахивала какой-то бумажкой, вытащенной из сумки, не давая бедному парню в руки. Кстати, что за бумажка-то? – Надо посмотреть. Кажется, расписание индивидуальных занятий со студентами. Он же требовал документ… – Зато Барабеке ты широко улыбнулась и, облив елеем, сказала: «Ступай, колобок, без тебя разберёмся». – Неприятно как… Обычно я не хамлю незнакомым людям. Он вообще-то кто? – Директор оркестра. Это к нему ушла Галя. Кроме того, у него сын – баянист. Играет похуже, но на место в оркестре претендовал. – Порежь хлеб, пожалуйста.
«Странная эта Галя. Я бы в её годы не задумалась, кого из двоих выбрать. Впрочем, мне ли судить…»
Раздался звонок в дверь, и в прихожую влетели разноцветной стайкой мои девчонки. Поцелуи, девчачий щебет… Андрей удивился, но героически помогал раздеваться, вешал куртки, приглашал в комнату.
– Нет-нет, нам на кухню. Эмилия Казимировна, у нас тут салатики, сыр, пирог…
Маришка, бывшая староста группы, обнимая меня, громко шептала на ухо:
– Простите, что не вовремя, но мы так соскучились… – Почему не вовремя?
Захихикали, перемигиваясь:
– У вас же бойфренд… – Вы мне бессовестно льстите. Знакомьтесь: это – Андрей, а это – выпускницы самой лучшей моей группы, талантливые современные хореографы. По какому поводу собрались – не знаю, надеюсь, сейчас скажут.
В ответ загалдели разом:
– Не только выпускницы, но и выпускник, Мишку не заметили. – А он нас бросил, в банк ушёл работать. – Да, Эмилия Казимировна, вынужден признаться: когда считаешь чужие деньги – появляется азарт… Хочется перестать считать свои. – А вообще-то у нас девичник: Людмилка замуж выходит. – За ирландца, представляете! – Теперь будет отбивать степ в Riverdance…
Когда всеми новостями обменялись, мои любопытные девчушки опять стали оценивающе поглядывать на Андрея.
– Если очень попросим, возможно, Андрей не откажется сыграть для нас.
Конечно, ему тоже захотелось произвести впечатление, опять зазвучало танго. Несколько аккордов, и Миша толчком отодвинул стол, выпрямился, взглядом приглашая партнёршу. Я тогда подумала: не долго он выдержит в банке, если так загорается, услышав музыку… Танцем заболевают на всю жизнь. Мариша, Людочка, Иринка… Оставаясь беспристрастным, Миша менял партнёрш, а они кружились вокруг него, соблазняя. Бёдра, руки, глаза, повороты, изгибы… Девчонки мои не «бальники», специалист нашёл бы к чему придраться, но иногда такое исполнение – черновик, намёк – не менее интересно, чем танец профессионалов. А Мишка, чертёнок, после Иринки остановился передо мной: вызывает посоревноваться. Мне ведь и тогда уже было… Не стану заниматься арифметикой, но… Немало. Ладно, чёрт с вами, попробую… В гибкости я, конечно, с девочками не сравнюсь, но плечи, руки, да и голова пока в порядке. Отстранённый взгляд чуть выше Мишкиной головы (всё бог ему дал для танца, кроме роста), чуть-чуть шевельнуть бёдрами, ленивый разворот… теперь ты закружишься вокруг меня… Да-да, сорвала-таки аплодисменты. А вы думали… Хорошему танцору и возраст в помощь…
– Эмилия Казимировна, мы прежде не видели у вас этой картины. – Автор – Лучиано Бордже, довольно известный итальянский художник, – пришлось честно добавить, – в узких кругах.
На картине, обхватив колени руками и отвернувшись от зрителей, сидит на берегу реки обнажённая девушка. Может, я пристрастна, но мне нравится и падающий сверху мягкий свет, и угловатая фигура девушки, и полная спокойствия река…
– Это же вы, Эмилия Казимировна! – Перебор, мои дорогие. Из чего это видно? – Ну, вы так улыбаетесь, глядя на картину… Как будто что-то вспоминаете…
Когда все разошлись, Андрей ещё долго стоял перед картиной.
– Знаешь, эти девочки тебя любят. – Надеюсь. – А свои дети у тебя есть? – Сын, внуки, даже правнук. Они все в Америке. Сын преподаёт там русскую литературу: Достоевский, Чехов… Открывает американцам тайны русской души. – Почему он не взял тебя с собой? – Во-первых, я не вписываюсь в его концепцию нормальной женщины. А во-вторых… Как ты вообще представляешь себе, что меня можно взять? Думаешь, я – старый чемодан с оторванной ручкой? Прости за банальность. – Это ты меня прости, – чуть напряжённо улыбнулся. – За эти несколько дней уже понял: тебя и правда невозможно взять, ты всё решаешь сама. Расскажи о художнике. – Когда-нибудь. Потом. Уже поздно, давай спать, Андрюшик. – Смешно ты сказала. Меня никто так не называл. – Вот и ладно…
…Раньше я боялась засыпать, слишком часто снился один и тот же сон: задохнувшаяся в дыму, оглохшая от криков ужаса, открываю глаза и вижу сошедший с рельсов горящий состав, опрокинутые вагоны, окровавленные тела тех, кто минуту назад находился рядом... С годами всё меньше верится в то, что это было со мной. Но всё-таки было…
Поздней осенью сорок третьего на хутор прибыла колонна итальянских военнопленных. Эсэсовцы загнали всех в стоящий неподалёку дощатый барак. Нар не было, на земляном полу спали по очереди. В нашем доме немцы устроили кухню. Измождённые, вечно мёрзнущие, обмотанные каким-то тряпьём, итальянцы не говорили по-русски, но, заходя в дом, кланялись, даже пытались улыбаться. Один, худющий как жердь, с глубоко впавшими глазами на обтянутом сухой кожей лице, протянул мне губную гармошку. Плеть охранника тут же оставила кровавые следы на его теле.
К Рождеству эсэсовцы привезли мешки с просом. Оно было смешано с мышиным помётом, и всё же… Я напросилась перебирать. Охранники следили, однако время от времени удавалось несколько крупинок смахнуть со стола на колени, зажать в кулаке… Когда набралось достаточно, в маленьком холщовом мешочке понесла украденное на рынок. В несбыточной надежде обменять хоть на кристаллик соли… Не повезло: немцы устроили очередную облаву. Казалось, время остановилось... Не знаю, не могу вспомнить: дни или недели товарняк простоял на станции не двигаясь. Люди теряли сознание от зловония, холода, голода. Время от времени с лязгом открывалась дверь: глоток свежего воздуха, сноп света, новые задержанные... Несколько буханок хлеба, брошенных в открытую дверь, бидоны с похлёбкой, команда сбросить умерших... Потом застучали колёса, затрясся, заходил ходуном вагон… Почти сразу – гул разрывов справа, слева: самолёты бомбили железнодорожные пути. Страха не было, к тому времени мы уже почти умерли. Только когда закрытый вагон загорелся, ужас захлестнул тех, кто не скончался мгновенно. Наверное, я тоже кричала, не слыша своего голоса. Очнулась, упав на руки тому, кто сбил замок с дверей. Идти не могла, Фёдор на руках принёс меня в отряд. Там я и прижилась: в землянке голодно, холодно, но не одна… А печёную-то картошку и без соли есть можно…
По моей просьбе Фёдор, он был командиром партизанского отряда, послал связных на хутор. Вернулись со страшной новостью: эсэсовцы подожгли барак с итальянскими военнопленными, в упор расстреливали выбегавших. Огонь перекинулся на наш дом… Лучиано, тот самый итальянец, который пытался подарить мне гармошку, оказался единственным, кто, раненый, сумел отползти и укрыться в кустах. Связные привели его в отряд. Увидев меня, Лучиано запричитал: «Mamma mia… amore mio». Непонятные слова показались молитвой.
Так пришла первая любовь. Не вовремя. И не к тому, к кому надо.
Как телята с огромными, влюблёнными глазами мы ходили друг за другом. Едва расставшись, находили сто причин увидеться снова… В отряде над нами подшучивали. Кто доброжелательно, кто зло. То, что итальянцы воевали на стороне немцев, не забывалось. Фёдор тоже скрипел зубами, но у него были личные причины…
Не знаю, можно ли действительно вспомнить любовь… волнение, сжимающее горло, дрожание рук, робкое счастье прикосновений… С годами чувства уходят, остаются горькие, несказанные слова. Да ещё что-то неназываемое, отчего вдруг защемит сердце и вспомнится та единственная ночь на берегу реки, когда, прильнув друг к другу, стали единым целым... Лучиано клялся: как только война закончится, он вернётся и заберёт меня. Не понимая слов, я кивала головой, веря: всё будет именно так. Мы обязательно будем счастливы, лишь бы закончилась война, нашлась мама… Старая стала: вспоминаю и плачу.
Война закончилась, мама действительно нашлась. Её приютила семья в соседней деревне. У хозяйки было девять детей, но нашёлся кусок… вернее, лепёшка из жмыха и для мамы. Мама с бабой Нюрой оставались подругами до последних дней, и все девять детей приезжали к нам, жили у нас, вспоминая лепёшки, и то, как непонятная городская женщина учила их крючком вязать из ничего красоту…
В сорок седьмом опубликовали указ «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Это расценивалось как классовая незрелость. Спустя год мы с Фёдором поженились. Я не любила его, думала, что никогда не смогу полюбить никого другого, кроме Лучиано. Но Фёдор любил, а я была ему благодарна за всё… Когда нечего ждать, радует и малость.
Родился сын, Ромка, мы были даже... почти счастливы. Но однажды Фёдор пришёл домой пьяный и злой. Ходил по квартире, отшвыривая ногой попадающиеся на дороге стулья, наконец сказал:
– Меня вызывали в горком партии. Тебе пришёл вызов, от этого твоего, Бордже, или как его там, в общем, от того итальянца. Он, кстати, стал художником, вроде, популярным. Оказывается, у него аристократические корни, связи в дипломатии и прочее… В общем, он зовёт тебя к себе. Насовсем. Ты имей в виду, я всё понимаю, удерживать не стану.
Себя не обманешь. Я струсила. Мама, сын, в конце концов, даже Фёдор, всё так… Я отвечала за них, от этого не уйти, но... Правда была в том, что я струсила. С тех пор больше не боялась никого и ничего, да только случившееся не зачеркнёшь и из жизни не выбросишь. Так с сознанием этого и жила.
В восемьдесят пятом Лучиано умер. Одну из своих картин он оставил «девушке, которую любил», так было сказано в завещании. В начале девяностых у вдовы Лучиано появился торговый партнёр из России, который взялся передать картину мне.
3
Белые скалы, прибой, крик чаек. Запах нагретых солнцем водорослей. Море вечно. Может, поэтому ему наплевать на то, сколько мне лет. По правде говоря, мне тоже плевать на это. Совсем неважно, что отражают зеркала. Я помню и ощущаю себя другой. Нет, не влюблённой двадцатилетней худышкой, просто женщиной – не старухой. В длинной летящей юбке, с лёгким шарфом, завязанным на шее замысловатым узлом, шляпке с большими полями… Или в белых джинсах, которые так любила когда-то, голубой шёлковой блузе…
Нелепые, случайные воспоминания крутятся в голове. Лето, я в тех самых джинсах, на голове бейсболка. Деревенский мужичок, нагруженный котомками по самые уши, ловит за руку:
– Парень, парень, скажи…
Поворачиваюсь, снимаю кепи, волосы рассыпаются по плечам. В глазах мужика – уважительный восторг:
– Вот… твою мать, баба. Дамочка, подскажите, где здесь Институт культуры? – За вашей спиной высокое белое здание. – Твою мать… выглядит как в книжке, да ещё умная… У всех спрашиваю, руками туда-сюда машут, а объяснить не могут.
Все руками машут – пытаются рассказать, как пройти, а я задала направление движения. Дорогу – сам найдёт. Бедная моя мамочка возмущалась так, словно подобных слов никогда в жизни не слышала:
– И он тебе в лицо, матом?!
Фёдор хохотал:
– Это от захлестнувших высоких чувств. Он же Институт культуры искал, понимать надо!
Спустя какое-то время я встретила этого мужчину в институте. Коротконогий, с носом, напоминающим картофелину, изъеденную проволочником, Евсеич, так его звали, преображался, взяв в руки балалайку. Комбайнёр-профессионал, он повредил спину, а кто-то из деревенских подсказал:
– Ты же на балалайке тренькаешь. Езжай в город, подучись. Лёгкий хлеб...
Над переростком-абитуриентом, конечно, посмеялись, но на заочное отделение приняли, а Евсеич организовал такое трио балалаечников, что вскоре их ансамбль прогремел по стране, посыпались приглашения на различные этнофестивали. Евсеич привозил награды в институт, вздыхал:
– Эх, Казимировна, не слышала ты, как я играл, – закатывал глаза к небу. – Как бог на арфе. Да он-то про Паганини, может, и не слыхал, а я – рискнул. Как хлопали, Казимировна, как смотрели… Будто коровы на мою старуху, когда она их доить приходила. Любили они мою старую, Казимировна, как любили…
Евсеич скучал по своей старухе, которая категорически отказалась переезжать в город, но и на меня смотрел теми же коровьими глазами: я ему нравилась. Любая женщина это безошибочно чувствует, и мне с ним было легко.
Фёдор подшучивал над моим кавалером. Когда видел, что мужчины обращают на меня внимание, и сам будто становился выше ростом, втягивал живот, начинал читать Фета, заглядывая в глаза:
– В дымке-невидимке Выплыл месяц вешний, Цвет садовый дышит Яблонью, черешней. Так и льнёт, целуя Тайно и нескромно. И тебе не грустно? И тебе не томно?
Внешне он казался неуязвимым, а в душу даже меня пускал неохотно…
Память – как мозаика. Не подчиняясь логике, всплывают то разноцветные картинки, то чёрно-белые. Встреча с Алеськой в пятьдесят пятом… Двухэтажный деревянный барак с удобствами во дворе. В четырнадцатиметровой комнате у окна за письменным столом – седой, сгорбленный, с огромной лупой в руке – дядя Адам. Рядом, сложив на коленях руки, кутаясь в шерстяной платок самодельной вязки – тётя Павлина. А возле столика, заменяющего кухню, у керогаза полная растрёпанная женщина в неопрятном халате. Увидев меня, срывается на крик:
– Явилась? Опять душу травить пришла? Гляньте-ка, с мужем под ручку, с тортиком… Змея. Помню: ты и тогда не пожалеть прибегала, похвастаться…
Рядом девчоночка лет двенадцати, тонюсенькая, на лице только носик торчит, да глазки зелёные, словно бусинки. Фёдор попытался протянуть девочке торт.
– Не смей брать у них, кому говорю! – Бог с тобой, Алеся. Мы в нашу последнюю встречу детьми были. А сейчас – какое хвастовство, о чём ты… – О том… Живёшь припеваючи, вот и не знаешь, – зло глянула на Фёдора. – Историк липовый. Подлинная история времени – вот тут, за этим столом пишется. Да, папа?.. С мужем она пришла. Ты вот у неё спроси, кто её папка, – кивнула на дочку.
Дядя Адам опустил голову, а Фёдор еле удержался, чтобы не броситься на Алеську:
– Не смей так говорить. Никогда, ни словом не соврал, – сжал кулаки. – Кто-то должен был воевать. До Берлина дошёл, лёгкое потерял, а меня тут попрекать надумали? Идём, Эмилия, – хлопнул дверью.
Нас догнала девочка, робко взяла за руку:
– Вы простите маму. Плохо ей, понимаете? Здесь все живут так, как будто ничего не было. А ведь это же было. Бабушка до сих пор боится деда одного отпускать, ей всё кажется, что его увезут, а она не узнает куда… – Как тебя звать? – Вера.
Я глупо брякнула:
– Кто твой отец? Его тоже реабилитировали?
Зеленоглазка пожала плечами:
– Маму охранник изнасиловал, вот я и родилась, – слова прозвучали обыденно и жутко. – Мне мама про вас часто рассказывала. Какие у вас куклы были. И про синее платье в горошек… У нас там таких не было.
Мы плакали, обнявшись, втроём в коридоре, Фёдор на клочке бумаги написал телефон:
– Что-то будет нужно – звони, не раздумывай…
Дядя Адам и тётя Павлина умерли в один день, не расставшись даже в последние минуты.
Спустя несколько дней после похорон Вера принесла штук десять толстых общих тетрадей, исписанных крупным неровным почерком. Строчки, теснились, набегая одна на другую.
– Мама сказала, это опубликовать невозможно. Хоть вы прочитайте.
Фёдор читал и отворачивался от меня, стыдливо пряча глаза, полные слёз. Нервничал, злился, стучал кулаком по столу, бегал по комнате, пил водку, опять открывал тетради. Лишь одного не мог принять:
– Каждый живёт так, будто Истина уже найдена, и она именно у него в кулаке. Не могу читать воспоминания попавших в лагеря с оккупированных территорий: «Ни один из партизанских отрядов, сформированных Москвой, в отличие от нас, местных, не берёг людей. Рапортовали о взорванных эшелонах с техникой, не нанося существенного урона…». Это же про меня, Миля! Это я руководил отрядом, сформированным в Москве, и, клянусь тебе, ни разу не соврал в сводках, ни разу… А они пропускали фурманки с карателями, потому что берегли мужиков, которые управляли конями… Знаешь, наверное, есть две морали: одна для мирного времени, другая для военного. И там и там всё просто. Но не пересекаются они никак…
– Успокойся, Фёдор. – Как?! Знаешь, я ведь тоже помню твой разбомбленный эшелон. И в нём действительно не было военной техники. Понимаешь, мне тогда казалось: это война. Одна на всех. И не мне решать, кто погибнет в ней, а кто спасётся… Я старался беречь своих ребят. Всё остальное – не в моей власти… – Успокойся, родной, – что ещё я могла сказать…
Восемьдесят шестой… Господи, как же я помню тот день: белые цветки алычи на коричневых прутиках, стрекотание кузнечиков, зелёная ящерка, ползущая по дорожке. И такой удивительный покой в природе: доверчивая беззащитность… После обеда пошёл слепой дождик. Тёплый, ласковый. Мы тогда только что купили дачу на Соже. Я просила Фёдора уйти в дом, а он возился и возился во дворе:
– Ну, что ты, Миля. Посмотри, как всё живое дождю радуется.
Вечером объявили, что где-то далеко что-то взорвалось.
На следующий день Фёдор не смог подняться. Врачи разводили руками: четвёртая стадия онкологии, неоперабельная. Неужели до сих пор не жаловался? Может быть, одно с другим и не связано, может быть… Но люди потом говорили, что в наших местах дозиметры зашкаливали. Нам оставался всего лишь месяц из почти сорока прожитых вместе лет. От одного обезболивающего до другого. Когда было совсем невтерпёж, Фёдор пересохшими губами шептал что-то неразборчивое. Склонилась над ним, и вдруг неожиданное:
– В темноте, на треножнике ярком Мать варила черешни вдали... Мы с тобой отворили калитку И по тёмной аллее пошли. Шли мы розно. Прохлада ночная Широко между нами плыла. Я боялся, чтоб в помысле смелом Ты меня упрекнуть не могла…
Нащупал мою руку, слабо сжал:
– Небось, жалеешь, что не уехала в Италию? Всё бы у тебя сейчас было по-другому. – Нет, мой хороший. У каждого своя жизнь. Моя – здесь.
Вскоре после похорон Фёдора слегла мама. Инсульт, паралич, второй инсульт… Роман испугался смертей. Он стоял в дверях, сопел носом, но так ни разу и не переступил порог бабушкиной комнаты.
– Рома, сыночек, помоги повернуть бабушку. Не бойся, это не онкология, не лучевая болезнь, всего лишь старость. До определённого возраста – не заразно… – Найми сиделку.
Но мама категорически отказывалась оставаться с чужими людьми. Мне пришлось оставить работу.
Роман получил какой-то грант и улетел в Америку. Ему было проще сочувствовать и соболезновать издалека. Проститься с мамой пришли мои бывшие студенты, Вера и Алеся. То, что нас разделяло, никуда не исчезло. Но, как ни странно, обыкновенное человеческое участие оказалось сильнее.
А книгу дяди Марка Вера с Алесей издали в девяностых. Без единой купюры. Да, каждый имеет право на свою правду. Но одно знаю точно: подлецом мой муж не был, и это та правда о войне, которую я пересматривать не собираюсь.
Всё-всё… Я не плачу. Скажут: «Расчувствовалась старуха…»
– Мадам…
Вот, это намного лучше.
– Мадам, хозяин прислал презент от заведения: десерт и домашнее вино.
Твой хозяин сумасшедший, мой мальчик. Он думает, что в такую жару я буду пить вино? О господи, как вкусно… Ледяное вино, кусочек арбуза. Пожалуй, мне уже можно не бояться потерять голову от бокала вина…
А тогда мы с Андреем пили красное. Как ни странно, он в своём подземном переходе иногда умудрялся неплохо зарабатывать.
– Миля, меня все спрашивают, какие у нас с тобой отношения. – Кто – все? – Ну, дворник Степаныч… – Что ты ему ответил? – Сказал: не будь он старше, дал бы в морду… – Подозреваю, что он не только старше, но и сильнее, хотя, в общем, правильно… – Знаешь, – насупился, смотрит из-под своих кустистых бровей, словно ребёнок, который что-то придумал и жаждет высказаться, – выходи за меня замуж. Только не перебивай. Я всё знаю: и про разницу в возрасте, и про разницу в положении, клянусь, я не претендую ни на твою квартиру, ни на бриллианты… – Которых нет. – Просто не хочу быть приходящим котом. – Понимаю, как честный человек, ты хочешь достойно похоронить меня. – Миля, с тобой невозможно разговаривать серьёзно.
Какой же он славный и смешной, когда злится…
– Почему? Я вполне могу высказать тебе свои предпочтения: никаких генеральских гробов, что-нибудь такое лёгкое, женственное, в цветочек. Да, и пожалуйста, накрасьте мне губы. – Ты невыносима, – разобиженный, сел верхом на стул, отвернулся лицом к окну, заговорил, не поворачиваясь. – Знаешь, я и сам теряюсь: какие у нас с тобой отношения… Но что-то ведь ты от меня ждёшь… – Честно? Немного тепла. Всё остальное ты мне дать не сможешь. Я любила человека, которого, уж прости, тебе не заменить. Это было недолго, но это было счастье… Я понимаю это только теперь. Ничего не поделаешь. Налей мне немного. Красное вино очень хорошо помогает от стронция и от любви. – Расскажи. – Не сегодня. Когда-нибудь...
4
Опять прилетела чайка. Не знаю, почему я так уверена, что это Андрей. Просто хочется думать, что его душа не забывает меня. Лети ко мне, мой хороший, я принесла тебе кусочек хачапури. Не отворачивайся, не стесняйся, мы же свои… Я никогда не рассказывала тебе о тех, кого любила. Теперь уже можно. Ты с ними…
Конец восьмидесятых – начало девяностых… Бесконечные собрания, митинги… Евсеич умудрялся бывать на всех. Сжимая кулаки, горячился:
– На этот раз, Казимировна, они нас не обманут. Не-ет… Мы учёные… Больше не позволим.
Бурный роман Евсеича с демократией прервала приехавшая из деревни старуха. Маленькая, кругленькая, с лицом как печёное яблоко, она вытребовала Евсеича с занятий и на весь институт громыхнула, словно геликон в похоронном оркестре: – Хватит, дед, доигрался. Страну, колхоз – всё развалили. Прощайся с искусством: картошку сажать треба. Двух кабанчиков купила, да куры, утки… У меня на всё рук не хватит. Гласность там или демократия, а будет чем на рынке торговать – не пропадём.
Спустя пару лет я встретила Евсеича на рынке. Он усох, съёжился и, взвешивая мне домашний творог, неловко оглядывался по сторонам, вздыхал:
– Такая вот жизнь, Казимировна. Балалайку мою старуха разломала. По правде говоря, я как ночью на чердаке сяду играть, потом весь день сам не свой…Она и осерчала. А я всё равно всё помню. Струн нет, а пальцы сами двигаются…
Я вернулась в институт, который громко назвали Университетом. Педагогам почти ничего не платили, зато рядом были люди. Учила девчонок держать спину, улыбаться через «не хочу», ставить танцы. Хотя не очень верила, что это – последнее, им пригодится. А студентки мои не унывали. Танцевали в кабаре, организовывали какие-то ансамбли, занимались репетиторством. Среди образовавшейся кучки нуворишей стало модным учить дочек танцевать. Девочки даже со мной поделились ученицей:
– Эмилия Казимировна, ну кто, кроме вас, сумеет эту корову хоть чему-то научить?
Корову звали Оленька. Толстая, нескладная дочь олигарха по любому поводу тонула в слезах и очень хотела танцевать в Большом. Мы вместе сидели на диете (с моей зарплатой это было нетрудно), втроём, с охранником, бегали по утрам и занимались растяжкой. Оленька посещала почти все мои уроки, и в конце концов мы стали почти неразлучны.
Дома, куда я возвращалась после всех занятий полуживая, на меня обрушивалась тишина. Так не хватало дыхания Фёдора рядом, пусть хотя бы стона или просящего маминого взгляда… Закрывала глаза, чтобы увидеть их… Умоляла присниться, но они не откликались…
Однажды тишину нарушил звонок в дверь:
– Простите, что поздно. Звонил, вы не отвечали. А сейчас увидел свет в окне и решился. Я недавно вернулся из Италии.
Фирменный, благоухающий хорошим одеколоном холёный мужчина с седой прядью в густых волосах… По правде говоря, до меня плохо доходило то, о чём он говорил. Завещание, портрет…
– Да, конечно, я знаю, вернее, знала Лучиано Бордже… Умер? И он тоже? Не может быть. Простите, безумно жаль – все уходят… как же я устала от смертей, господи. – Да-да, конечно, можно, заходите когда-нибудь… Потом.
Спустя месяц в моём почтовом ящике оказалось толстое-претолстое письмо, уж не знаю, как оно туда влезло… На первой странице: «Здравствуй, Ромашка». Мне? И подпись: «Иван». Кто-то что-то перепутал. Какое мне дело до чужих писем… Но одиночество по ночам – такая злая штука… «Я сто раз начинал это письмо, сто раз переписывал обращение… Конечно, ты не узнала меня. Ты же всегда пролетала по двору как вихрь, не обращая внимания на десятилетнего пацана, который из кожи вон лез при твоём появлении, подтягиваясь на турнике или разъезжая на колченогом велосипеде… А я всегда звал тебя про себя только так. Так уж и буду, прости… И на «вы» обращаться тоже не получается, опять прости… Когда синьора Бордже попросила меня передать портрет… я ошалел. Сто лет жил, не вспоминая тебя, и вдруг… Ладно, прости, Ромашка. Начнём сначала. Помнишь старую песню: «Наши окна друг на друга смотрят вечером и днём»? Наши окна действительно смотрели друг на друга, и было время, когда это сводило меня с ума… Потом прошло. Закончил институт, женился… В тридцать три осознал, что инженер я – никудышный, жена – красивая стерва-алкоголичка, и есть двое ребятишек, у которых кроме меня – никого. Забрал четырёхлетнюю дочку, трёхлетнего сына, уехал в маленький городок за Уралом. Судя по рассказам, жена отсутствия детей не заметила. Вот когда я узнал цену слову: «выживать»… У нас не было вариантов. В пять тридцать утра подъём, обтирание холодной водой (ни малыши, ни я не имели права болеть), обязательный горячий завтрак, закутывание детей и – в ночь, на троллейбусную остановку, притопывая ногами, ждать транспорт. А на улице минус тридцать… Я на работу, детвора в детский сад. Вечером всё в обратном порядке: ледяной троллейбус, который еле ползёт, ужин, обтирание и в постель… Именно тогда я стал по каплям выдавливать из себя неудачника. Из рохли и мечтателя лепил мужчину – такого, каким, мне казалось, он должен быть… Дети вдохнули в это придуманное «нечто» жизнь. Там, на Урале, я занялся нелегальным бизнесом. Как ни странно, дело пошло, спустя несколько лет я мог бы купить любую машину, квартиру, пожалуй, и сам городок, только не было того, кто мог бы продать мне всё это. В новые времена пришёл циничный, уверенный в себе человек с железной деловой хваткой… Вот так, Ромашка. Видишь, я не стараюсь приукрасить в твоих глазах свою жизнь. Иногда думаю, кем бы я мог стать, сложись всё по-другому. Хороший юрист, журналист… Но нет, наверное, я по природе авантюрист, и всё равно свернул бы на эту дорожку. Дочка, кстати, живёт в Англии, у неё деловая хватка – в меня. Два темнокожих внука. Никогда не был интернационалистом, и это кажется мне перебором, но, увы… люблю их, бесконечно. Сын гоняет на машинах по Праге. Вот такая золотая молодёжь… Понимаю, ты читаешь и ломаешь голову: зачем я пишу тебе всё это… «Ах, если б я знал это сам…» Помнишь? Ну конечно, вы же все любили Окуджаву… Это у меня не было времени на стихи. Прости. Я не злой. Просто не умею забывать. Вот и тебя, как оказалось, не забыл. Портрет обнажённой девочки, написанный мужем синьоры Бордже, перевернул мою жизнь. Опять не о том… Наши окна, между прочим, по-прежнему смотрят друг на друга. Я выкупил этаж в родительском доме. Я вообще очень прагматичный человек, в отношении к женщинам тоже. Во всяком случае, так считает моя жена – естественно, молодая и глупая. Знаю, ты сейчас кривишь губы, и всё же… Не хочу обманывать, притворяясь лучше, чем есть. Ромашка, ради бога, только не подумай, что я пытаюсь тебя купить. Скорее наоборот: как недобросовестный ритейлер пытаюсь впихнуть тебе совершенно ненужное бэушное тело, потрёпанное больное сердце и случайно оставшийся незапачканным кусочек души. Пожалуйста, разреши мне писать тебе. Совершенно не доверяю работе нынешней связи. Но всё же… отправлю это письмо обычной почтой. Если не дойдёт – не судьба. А если явка не провалена, поставь на подоконник цветок красной герани».
Не знаю, сколько раз я перечитывала письмо, пытаясь вспомнить в нашем дворе мальчишку, о существовании которого не подозревала… Ответ состоял из единственной фразы: «У меня дома нет герани»…
Так началась наша переписка. Я и не заметила, что стала ждать письма Ивана, а, получив, ходила и всем улыбалась: прохожим на улице, котятам во дворе, вечно что-то галдящим сорокам на дереве, даже собственным студентам, которых надо было бы держать в строгости. Они, нахалята, моим легкомысленным настроением пользовались, занятия прогуливали, хотя потом клялись в вечной любви… а я опять улыбалась: ни в их, ни в собственную вечную любовь не верила, но было что-то такое разлито в воздухе… Словно не вовремя, невпопад, пришла весна…
Иван настоял на том, чтобы подарить мне компьютер: «Ромашка, как ты не понимаешь, я купил компьютеры для всего районного отделения милиции, ещё один – погоды не делает. Зато теперь ты вместе с ними будешь моим гарантом безопасности. И письма будут приходить гораздо быстрее». Оленька научила пользоваться электронной почтой. Да, в этой мгновенной переброске несколькими словами было что-то запредельно-манящее… Встречаться мы не стремились. Наверное, оба боялись разрушить то хрупкое, что зарождалось в письмах, в которых сами себе казались просто мужчиной и женщиной, не отягощёнными ни возрастом, ни прошлым, ни будущим… Я писала о своих студентах, о Ромке, который всё обещал приехать, да так и не приезжал, Иван – о проделках внуков, о том, что завидует мне: хочется пожить просто, обыденно. А его жизнь – шахматная партия, которую уже нельзя не играть, хотя цена проигрыша… Он ставил многоточие, и мне казалось: Ваня, как мальчишка, красуется передо мной. Однажды обмолвился: бывают такие ошибки, с отложенным спросом, когда не знаешь, в какой момент тебе предъявят счёт. Вроде и не к бизнесу это относилось, ко всей нашей жизни… Изредка я видела его во дворе, садящимся в машину или выходящим из неё. Наверное, он тоже меня видел. Как-то пришло короткое письмо: «Почему хромаешь?» – «Колено болит. Профессиональное.» – «И молчишь…» Через несколько дней принесли несколько упаковок ужасно вонючего французского крема, действительно снявшего боль. Ваня улыбался: «Ну как, бегаешь? Танцуешь?» – «Спасибо. Танцую. И бегаю…»
Что, Андрюшенька, тебе надоело слушать мои откровения? Лети, конечно, лети, мой хороший. Видишь, море начинает волноваться. Это оно ревнует тебя ко мне. Шучу, милый, шучу. Что же ещё остаётся… Воспоминания – привилегия старости, а ты молод… Темнеет. Поднялся ветер. Наверное, будет гроза.
– Да-да, спасибо, милый мальчик. Я поднимусь наверх сама. Ну, хорошо, если хозяин кафе так велел, иди рядом, держи зонтик. А лучше – присмотри мне где-нибудь в уголке столик, не слишком освещённый. И чашечку капучино.
На день рождения Иван прислал томик стихов Фета, 1902 года издания, в потрёпанном, но изысканном кожаном переплёте.
«Ты всё равно не приняла бы от меня ничего другого, а это, надеюсь, тебе понравится. Открыл, полистал: «Непогода – осень – куришь, Куришь – всё как будто мало. Хоть читал бы – только чтенье Подвигается так вяло… ………………………………. Сердце стынет понемногу, И у жаркого камина Лезет в голову больную Всё такая чертовщина!» Не ожидал, что этот нелепый бородатый мужик писал стихи обо мне…»
Следующее письмо было совсем коротким: «Я стёр нашу переписку, прости, Ромашка». А утром газеты, захлёбываясь, писали, что известный бизнесмен, владелец тех-то и тех-то компаний застрелился… В отделении милиции, том самом, для которого Иван купил компьютеры, меня пытался слушать какой-то мрачный и неимоверно уставший капитан. Вздохнув, прервал:
– Иван Евгеньевич правильно поступил, стерев переписку. Лучше бы и вам сделать то же самое. Он был неплохим человеком, но, – криво усмехнулся, – слишком большой груз попытался взвалить себе на плечи, вот и не устоял…
Я не плачу. Не плакала и тогда. Не было у меня слёз… совсем. Только нетающий, непреходящий комок застрял в груди. На долгие годы. Наверное, никто из окружающих, кроме Оленьки, ничего и не заметил. Лишь она заглядывала в лицо и спрашивала:
– Эмилия Казимировна, что с вами? У вас потухли глаза…
– Да, спасибо, что принесли плед, вы правы, зябко. И, пожалуйста, ещё кофе. Кажется, я сегодня напьюсь.
Как точно сказано в аннотации к духам: «мгновение, когда солнце уже село, а ночь ещё не наступила…». Мгновение оказалось длинным. В его сумраке нежданным огоньком замерцал Андрей. Высокий, угловатый, меняющийся при первом же прикосновении длинных тонких пальцев к кнопкам баяна… При внешней нелюдимости – детское ощущение радости жизни и постоянная жажда праздника. Ах, как он умел веселиться…
Однажды затащил меня в ночной бар. Я пыталась сопротивляться:
– Смешно, когда старая женщина ведёт себя как девчонка.
– Ты о ком, Миля? – демонстративно оглядывался. – Не вижу старой женщины. По правде говоря, и девчонки не вижу. Есть только упрямая особа, которая не умеет развлекаться. Но я её сейчас научу.
Это была лучшая ночь в моей жизни. Мы... [...]
Купить доступ ко всем публикациям журнала «Новая Литература» за сентябрь 2020 года в полном объёме за 197 руб.:
|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
|||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|
|||||||||||

