Виктор Парнев
Мини-повесть
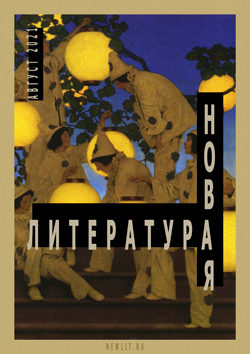 На чтение потребуется 55 минут | Цитата | Подписаться на журнал

В прошлый вторник я достоверно узнал, что Георгий Фёдорович Митин умер. О том, что его давно уже нет в живых, я догадывался, но подтверждения тому не было. Хотя «давно» ‒ это, конечно, не десятилетия и даже не годы. Последний раз он ответил на мой телефонный звонок месяцев пять или шесть назад. Голос в трубке у него был слабый, старческий, болезненный, но таким его голос стал уже после семидесяти. С тех пор не менялись ни его голос, ни плохо прикрытое уклонение от встреч со мною. Даже телефонный разговор, самый обычный, вроде «как дела… как поживаешь… как здоровье», он старался поскорее завершить под разными предлогами. Под конец жизни он избегал меня уже неприкрыто. Поскольку никаких поводов для этого я не давал, я пришёл к выводу, что Митин постепенно становится меланхоликом, затворником и, может быть, мизантропом. Как иначе объяснить, что после тридцати лет близкого знакомства и, не побоюсь сказать, дружбы, вдруг такая неприязнь?.. Да, тридцать лет. А если точно, тридцать три…
Тридцать три года назад я, университетский выпускник, уже распределённый в одну скромную газетку журналист, явился с ордером в руках в эту квартиру. В ордере мне предлагалась комната площадью – только не смейтесь! – восемь целых шесть десятых квадратных метра. Правда, в решении жилищной комиссии райисполкома была обнадёживающая оговорка – «до подхода основной очереди». То есть, эта конура должна была служить мне только временным пристанищем, и, значит, впереди маячила какая-то надежда. А надежды, как известно, юношей питают. Но что мне были в то время какие-то метры какой-то жилплощади, отвечающие или же не отвечающие каким-то там нормам? Я был молод, дерзок и самонадеян, а главное, не сомневался в своей всепобеждающей талантливости, приближенной к гениальности. Тот факт, что население Земли ещё не знало о моих достоинствах планетарных масштабов, я ставил в вину не себе, но населению. Разумеется, это быстро прошло, но в те дни… Ключ от квартиры (где деньги, увы, ещё не лежали) у меня был, его мне выдал домоуправ, но я из деликатности вначале нажал кнопку дверного звонка. Что эта коммунальная квартира велика, я знал из документов, но увиденному нельзя было не удивиться. Куда-то в бескрайнюю даль, в историческую перспективу, уходил широкий тёмный коридор, заставленный какой-то рухлядью, а по стенам завешанный тазами, стиральными досками, детскими санками, велосипедами. Не заставленными, не завешанными оставались только двери по обеим сторонам тоннеля. Открывшая мне древняя, но удивительно опрятная старушка, явный осколок ещё довоенной интеллигенции, вежливо выслушала меня, понимающе кивнула и указала на первую справа от входа дверь. За этой дверью и должна была начаться моя новая, теперь уже вполне самостоятельная, жизнь. К моему удивлению, комнатка оказалась совсем неплохой. Окно глядело во двор-колодец, но колодец просторный, светлый и не шумный; стены, по-видимому, недавно оклеены приличными обоями тёплого желтоватого тона; пол – паркет, хотя и потемневший за давностью лет, но хорошо сохранившийся, не скрипучий, дубовый. От прошлого какого-то жильца осталось ложе ‒ узкая тахта на коротких толстеньких ножках, осмотрев которую я сходу решил, что она мне подходит, и менять её я не стану. Главным же достоинством комнаты я посчитал высоту потолка, она была четыре метра минимум. Пусть мал метраж, зато велика кубатура, а значит, воздуха будет вдоволь… Оставалось переехать, то есть перетащить из общаги мои немудрёные малочисленные пожитки, в основной состав которых входили пишущая машинка «Москва», кассетный магнитофон Sharp, несколько десятков книг, подушка и баул с одеждой. Когда я покидал квартиру, и уже взялся за ручку двери, стала приоткрываться дверь соседней, рядом с моей, комнаты, и в приоткрывшемся проёме как-то замедленно и нерешительно показалась мужская фигура. Я приостановился, чтобы поздороваться и представиться ближайшему будущему соседу. Видимо, по моему лицу и всей моей фигуре человек понял мои намерения, и сделал шаг через порог в коридор. Он был невысок, бородат и усат, седоват, хотя вовсе не стар, и сразу было видно – мягкого, покладистого нрава. На нём была домашняя, на пуговицах, вязаная кофта, мешковатые вельветовые брюки, на ногах тапки с помпонами, на груди болтались на шнурке очки, которые наверняка он только что снял с носа. Везёт же мне с соседями, подумал я, уж не сплошная ли интеллигенция проживает в этой классической коммуналке?.. Вскоре я, конечно, убедился, что интеллигентная часть населения квартиры составляла меньшинство, но в тот день впечатления мои были отрадными. ‒ Вы, наверно, новый… ‒ он запнулся, подыскивая замену холодному официозному слову «жилец», ‒ …наверно, наш новый сосед? ‒ Да, вот ордер получил, ‒ зачем-то сообщил я, не доставая, впрочем, и не показывая бумагу, которую, кстати, и открывшая мне древняя старушка, и этот милый бородач имели полное право у меня потребовать. ‒ Ну, добро пожаловать. Вероятно, вы ненадолго. Эта комната маневренная, в неё постоянных жильцов не вселяют. Часто в ней люди меняются. ‒ Вот как?.. – я был озадачен, хотя и впрямь не собирался здесь задерживаться. – А вам, здешним постоянным, это наверняка не очень радостно. Ведь так? ‒ Ну, что поделаешь, ‒ он с видом безысходности развёл руками. – Как говорится, начальству не прикажешь, оно само нам приказывает. Вы, во всяком случае, не виноваты. ‒ Постараюсь не особо беспокоить вас, не мельтешить без надобности. ‒ Нет, что вы, у вас права такие же, как у всех нас. Кстати, не забудьте место на кухне себе застолбить, а то придётся с другими соседями всякий раз в поединок вступать. ‒ Спасибо. Место себе отвоюю непременно. Всего доброго. На днях с вещами перееду окончательно. Вас, извините, как зовут? Давайте познакомимся… Он отрекомендовался Георгием Фёдоровичем. Я, соответственно, назвал себя. Доброжелательный, интеллигентный, позитивный человек, такое у меня сложилось о нём мнение. Оно впоследствии не изменялось несмотря ни на какие обстоятельства.
Главред газеты, куда я был трудоустроен после выпуска, неожиданно проникся ко мне чем-то вроде доверия или даже симпатии. Конечно, не лично ко мне, а к моему перу, к стилю моих не бог весть каких, теперь признаюсь честно, текстов, которые он называл жестковатыми, но энергичными, доходчивыми для читателя любого уровня и в то же время претендующими на эрудизм. Конечно, эрудизм, куда же без него… Уж кем-кем, а эрудитом я себя считал неоспоримым и притом давнишним. И не один я так считал. Кто сомневается, тому могу предъявить сохранившуюся чудом мою школьную характеристику за 8-й класс. «Мальчик развитый, начитанный, из интеллигентной семьи, в которой большая библиотека». Правда, дальше следовало: «Учится ниже своих способностей по причине увлечения посторонними веяниями». Под веяниями наша классная руководительница подразумевала Битлз, Элвиса Пресли, Эллу Фитцджеральд, Фрэнка Синатру, Дорз, Эрнеста Хемингуэя, О. Генри, Булгакова, Чапека, Кафку и много-много ещё кого и чего. Но эрудизм… О, да, конечно, эрудизм!.. Большим эрудитом считал я себя уже после школы. А уж университетский диплом говорил о мой просто энциклопедичности. Так я и думал о себе. Втайне, но всё же думал. До поры. А именно ‒ до встречи, а затем сближения с Георгием Митиным. Первые месяцы после вселения я был слишком увлечён редакционными делами, укоренением в профессии, налаживанием отношений с коллективом газеты. Здесь всё складывалось для меня удачно, никаких особых каверз и препонов на своём пути я не нашёл. В квартире поначалу было чуточку сложнее. Местный пролетариат в лице заводского фрезеровщика Шарабанова и фабричного плотника Соловихина сразу указал на маневренный статус моей комнатушки и, следовательно, на ограниченность моих прав. Место на кухне они отводили мне ‒ крохотную тумбочку, приставленную сбоку к столу Митина, по принципу «уж если ваша комната в соседстве с его комнатой». Мнения Митина на этот счёт они не спросили. Вообще, было заметно, что в квартире относились к Митину с насмешкой, не принимали его всерьёз, и при всякой возможности притесняли. Я поблагодарил их за такую заботу, пообещал проконсультироваться у домоуправа, а если потребуется, у участкового. А пока, до полного выяснения своих прав, убедительно попросил позволить мне расположиться поудобнее и попросторнее, при этом напомнил о таких же правах Митина. Пролетариат огорчился, но вынужден был отступить. Я привёз из комиссионки и установил там, где посчитал возможным и нужным, не совсем новый, но вполне приличный кухонный стол-тумбу для хранения посуды и готовки. Узнав о том, что я при этом ещё и газетчик, пролетариат скис окончательно, а вскоре стал заискивать и предлагать свои посильные услуги по плотницкой, слесарной или ещё какой нужной мне части. В состав народонаселения квартиры входили, кроме упомянутых уже лиц, две пролетарские жены, одно их дитя (двенадцатилетняя девочка Ира); работница торговой сферы Альбина Исаковна с мужем неизвестного рода деятельности; пожилой джентльмен Вениамин Ильич, супруг открывшей мне в первый день дверь Антонины Михайловны; а также некое лицо мужского пола, долговременно отсутствующее и должное ещё отсутствовать шесть лет из присуждённых ему десяти. Комната антиобщественного этого лица стояла запертой и опечатанной. Комнату Митина и мою комнату разделяла дощатая перегородка, негусто оштукатуренная с двух сторон и оклеенная обоями. Слышимость сквозь неё была превосходная. Во всяком случае, я слышал, как Митин там у себя кашляет, сморкается, двигает стул, открывает или закрывает перекошенную, видимо, форточку, производит другие какие-то звуки непонятного свойства. Всё это было не так уж и громко, не часто и, в общем, для меня не раздражительно. Другое дело – я. Моя жизнедеятельность наверняка была слышна Митину чаще и лучше. Во-первых, моя пишущая машинка. Её маленькие да удаленькие молоточки-литеры, выбивающие через ленту чёрные буквы на белой бумаге, отдавались в моей комнате звонким раскатистым эхом. Не слышать и не страдать от этого в своей комнате Митин не мог. А стучал я на машинке иногда по нескольку часов. И можно было представить себе ощущения терпеливого (но не бесконечного же!) соседа. Другое моё увлечение, сделавшееся с годами непременным сопровождением жизни – это было музыкальное сопровождение, точнее сказать, меломанство. Элвис Пресли, Билл Хейли, Эдди Кокрэн, Битлз, Дорз, Пинк Флойд, Дюк Эллингтон, а позже АББА, Бони М, Алиса, Аквариум, ДДТ и прочие «посторонние веяния» из моей школьной характеристики, с годами никуда не делись, но, напротив, укрепили и расширили свои владения в моей душе и повседневной жизни. Изрядной мощности японский двухкассетник «Sharp» на моём столе в соседстве с пишущей машинкой молчал очень редко. Ну, и как мог относиться к этому мой терпеливый и тактичный сосед через стенку? Наверняка Георгий Фёдорович не позволял себе высказать мне претензию из природной своей деликатности. Я решил явиться к нему сам с повинной, и однажды, определив по звукам, что он у себя в комнате, постучал в его дверь. По выражению его лица, возникшего за приоткрытой дверью, я понял, что он в замешательстве и что я, возможно, явился невовремя. Приглашать меня войти он, во всяком случае, не спешил. Я кратко и со всей возможной вежливостью объяснил ему свой визит. Лицо Митина сразу прояснилось, он ещё немного помедлил, облегчённо, а возможно, обречённо, вздохнул и жестом пригласил входить. Жилище его удивило меня и озадачило. Комната была немногим больше моей каморки, и притом такой запущенной, словно ни ремонта, ни уборки в ней не было с самого сотворения мира. ‒ Да, да, у меня так вот, ‒ угадав моё впечатление, смущенно и огорченно проговорил Митин. – Так вот живу. Не вижу смысла тратить силы на изыски при сложившихся обстоятельствах. Обстоятельствами был тот факт, что лет пять или шесть назад комната его была признана не отвечающей новым каким-то, более строгим, нормам, и он был поставлен на очередь «на улучшение». С тех пор он, якобы, и перестал заботиться о состоянии своей комнаты, но, судя по всему, заботиться он перестал много раньше. Ну, хотя бы стекло в окне протереть мог бы, невольно подумал я, понимающе кивая в знак доверия к его объяснениям. А не мешало бы стекло не только протереть (а ещё лучше вымыть ), но даже заменить, поскольку у него был выбит левый нижний угол, а дыра величиной в пару ладоней была заткнута скомканным серым от старости полотенцем. Всю обстановку митинской комнаты составляли: деревянная, наверняка очень скрипучая, кровать; шкаф с одеждой типа «шифоньер»; три стула, шатких и небезопасных для активного сидения на них; и главное ‒ тяжёлый, тёмный, на двух тумбах с выдвижными ящиками, необъятный «профессорский» письменный стол, занимающий добрую четверть комнаты. На столе, вплотную к стене, то есть, к перегородке между нашими комнатами, возвышался до самого потолка стеллаж с книгами. Вот книги-то и были главным содержанием жилища моего соседа. Они были везде. Ими забит был стеллаж, завален стол, заняты два из трёх стульев, нагружен подоконник, и даже на полу, давно не мытом и не подметённом, они лежали там и тут высокими стопками. Невольно я отметил для себя названия тех книг, что подвернулись под руку: «Тропами Заратустры» С. Одуева, «Вторая мировая война» Джона Фуллера, «Избранное» Белинского, «Статьи и письма» Чаадаева, «Иван Грозный» К. Валишевского, «Уинстон Черчилль» В. Трухановского, «Наполеон Бонапарт» А. Манфреда, англо-русский, русско-английский, русско-немецкий словари… Беллетристической литературы видно не было, одна политика, мемуаристика, историография, публицистика. Митин жестом пригласил меня садиться на свободный стул, а сам уселся на кровать. Его тёмные добрые глаза смотрели на меня смущённо и заранее виновато. Он, по-видимому, всё же был уверен, что я пришёл к нему либо с претензией, либо с какой-то обременяющей просьбой. Поняв, наконец, с чем я пришёл, он облегчённо выдохнул. – Что вы, что вы! Никакого беспокойства. Стучите?.. на машинке?.. Нет, не слышал. Хотя… Да, что-то иногда такое: тук-тук… тук-тук… Но это пустяки, поверьте, это если прислушаться. Ещё и музыка?.. Нет, музыки не слышал. Вот раньше сосед из верхней квартиры иногда тяжёлый рок включал, так это доносилось. На него другие жаловались в милицию, сейчас его совсем не слышно. И вообще, знаете, с моим слухом вы можете не опасаться, что потревожите… Он кратко рассказал, что в своё время был призван на флот, служил на Балтике, в Кронштадте, был артиллеристом, комендором, а в то время ещё не слишком заботились о здоровье служивых. Там и пострадал его слух от этих проклятущих учебных стрельб. Это проявилось уже после демобилизации. Проще говоря, сейчас он плохо слышит. Не глухой, конечно, но ослаблен его слух значительно, и, более того, врачи сказали, что с годами будет слабнуть ещё больше. Лучшего для меня сообщения от соседа было трудно придумать. Теперь я мог стучать на своей портативной «Москве» без зазрения совести и ловить кайф сутками напролёт хоть от Элвиса, хоть от Лед Зеппелин. Вот так было положено начало нашему сближению, впоследствии переросшему в дружбу. Мы стали чаще видеться и без особых церемоний заходить друг к другу в гости. Он позволял мне перебирать разложенные и разбросанные по его комнате книги, рыться в них и уносить к себе для прочтения. Много, очень много умных книг переместилось из его комнаты в мою комнату, и далеко не все возвращались назад в скором времени. Митин снисходительно относился к таким экспроприациям, он понимал, что дальше моей комнаты уйти книгам некуда, и для него они остаются всегда под рукой. А мне такое чтение, неспешное, как если бы я был владельцем книги, приносило куда больше пользы.
Чем ближе узнавал я Митина, тем большей симпатией и тем большим почтением проникался к нему. Прежде всего, выяснилось, что я выкормыш одной с ним альма матер, пусть и с разницей в двадцать лет; разница в наших возрастах была ещё больше. Я закончил факультет журналистики, он – исторический. Я слушал лекции преподавателей, фамилии которых помнил также Митин, а некоторых из них, тогда ещё молодых, он даже слушал. Теперь он сам преподавал историю в одном малоизвестном вузе, длинное название которого я всё никак не мог запомнить. Вначале я не сомневался в том, что Митин старый холостяк, но, оказалось, нет, он был женат, и даже не бездетно, в этом браке была дочь. Уже много лет у него нет контактов ни с бывшей женою, ни с дочерью, которой сегодня за тридцать. Отвечал он на мои расспросы о них неохотно, скупо, и понять что-либо было трудно. Оставалось удивляться, как с таким покладистым характером он умудрился разойтись с семьёй, и даже с дочерью не сохранить хотя бы призрачных фамильных отношений. Вскользь он отозвался о жене как о скандальной истеричке, и, похоже, говорил без злобы, с сожалением. Спрашивал я его о родителях и о детстве, но об этом говорил он с ещё большей неохотой. Детство было у него безрадостным. Родители погибли в первый год войны на оккупированной территории, а его, трёхлетнего, приютили и воспитывали до десятилетнего возраста посторонние люди. Своих детей там было трое, и он был этим людям явно в тягость. Может быть, сейчас и нужно их благодарить, но одевали его в обноски, кормили остатками, при этом без конца бранили, попрекали куском хлеба. В конце сороковых его отыскала родственница матери, двоюродная его тётка, забрала к себе, и у неё стало жить легче. Правда, не намного. В конце концов он оказался в детском доме… Историком, по всем признакам, он был превосходным. И не только историком. По складу своей личности и по направленности мысли он был тем, кого сегодня называют хитроумным словом «политолог», а в год нашего знакомства о таком слове не слыхивали ещё ни я, ни мои молодые коллеги газетчики. Митин это слово знал уже тогда, и широко им пользовался в наших разговорах. Знал он много и других таких же непривычных новых слов, которые спустя немного времени вошли в повседневный газетный и обиходный язык. «Правовое государство», «либерализация», «консенсус», «многопартийность», «надпартийность», «разделение властей», «электорат», «общественный контроль», «коллегия присяжных», «независимая адвокатура», «независимая пресса», и самое для меня непривычное, скажу больше, пугающее, ‒ «оппозиционная пресса» ‒ все эти слова и все эти понятия были произнесены и растолкованы мне им задолго до того как их стали вслух произносить на собраниях и употреблять в своих газетах перестроечные журналисты. Одним из первых среди них, с его лёгкой руки, оказался и я. Но это произошло позже, а пока, общаясь по вечерам с Митиным, я со стыдом и горечью осознавал, что ничего не знаю и не понимаю, что вся моя якобы начитанность и все вынесенные из стен университета якобы знания – жалкое подростковое дилетантство в сравнении с тем, чем обладал мой добрый милый сосед Митин. Дело было не столько в самих его знаниях, в сведениях по истории, которые у него действительно были обширными, сколько в культуре их осмысления, в способности увязать их с другими фактами и сведениями, в умении сделать из этих увязок свой логичный, неотразимо точный вывод. Такой культуре мысли и такой способности к логичности не мог научить никакой Оксфорд, никакая Сорбонна. Это могло быть только свойством самого человека, его природным личным уровнем. Мне оставалось только учиться у Митина и надеяться, что придёт время, и я дотянусь с божьей помощью до его уровня, разовью свои зачаточные пока ещё мыслительные способности, и стану для него собеседником не только приятным (он в этом признался однажды), но, может быть, и интересным. Иногда я задумывался: мы с ним заканчивали одинаковые школы советского образца, мы учились в одном вузе при одних и тех же преподавателях и одном руководстве, мы много лет живём в одном городе, но он уверенно смотрит в одну сторону, а я до встречи с ним смотрел совсем в другую, и ведь тоже не особо колебался. Почему так? Митин высказал на эту тему мнение: – Чтобы начать мыслить критически по отношению к своей власти, вовсе не обязательно читать эмигрантскую прессу или нашу самиздатовскую, подпольную. Достаточно вдумчиво читать вполне легальную литературу, в первую очередь нашу классическую. «Записки охотника» Тургенева сделали для отмены крепостного права больше чем «Колокол» Герцена. Во всяком случае, я так считаю. «Государь», «История Флоренции» Макиавелли – как ещё лучше скажешь о единоличной власти и о внутригосударственной борьбе за власть? Вообще, о власти и о государстве всё уже сказано задолго до нас, и сказано лучше, чем можем сказать мы. Причём, сказано в книгах, которые изданы у нас в разные годы совершенно легально. Надо просто знать, что читать, и уметь делать выводы из прочитанного… Тем не менее, он то и дело приносил откуда-то – а я не решался спросить от кого и откуда – эту самую «запрещённую», эту «подпольную», осуждаемую у нас и преследуемую литературу. Иногда это были подслеповатые машинописные рукописи на тонкой, почти папиросной, бумаге; иногда машинописные, но выполненные аккуратно, старательно склеенные или скреплённые под вид книжечек – то, что стало называться у нас «самиздатом». Несколько раз приносил он и настоящие книжки, несомненно, приехавшие из-за границы, и, несомненно, тайком; они были преимущественно в мягких обложках. Венцом всей этой окололитературной конспирации были книжки явно самодельные, но из настоящих типографски отпечатанных листов зарубежного происхождения. Митин объяснил, что в рассыпном, несброшюрованном виде легче провозить крамолу через наш кордон, а собрать её в книжечку можно и здесь, было бы что собирать!.. Разумеется, всё приносимое он позволял читать мне. На прочтение одной вещи отводилась одна ночь, в лучшем, редком случае – сутки. Но они того стоили, эти ночи без сна, эти сутки. Так я узнал «Зияющие высоты» Зиновьева, «Слепящую тьму» Кестлера, «Портрет тирана» Антонова-Овсеенко, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Москву-2042» Войновича, «Август 1914-го» и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына… Нельзя сказать, что всё изложенное там было для меня совсем ново, но вот как оно было изложено, как доходило до сознания и отпечатывалось в нём!..
Одна только мысль смущала меня, не давала покоя: почему человек, которому под силу сложные вопросы государственного уровня, прозябает в жалкой коммуналке, подвергается притеснениям со стороны соседей, служит в рядовой должности рядового учебного заведения? Уж кандидатом-то наук за это время он мог стать. Но вот не стал. В чём дело?.. ‒ Пытался я, пытался… ‒ пояснил мне как-то Митин. – И не просто пытался, мне само руководство кафедры посоветовало защититься. Дело было за выбором темы. Ну, я и выбрал на свою голову. Назревала очередная круглая годовщина Октябрьской революции, тема должна была быть соответствующей. Я подумал, полистал всякие темники, посовещался сам с собою, и придумал: «Социальный состав белого движения». Ни у кого ещё такой темы не было, я – первый. С научной точки зрения тема и важная, и интересная. Мой руководитель вначале впал в ступор, а, посоветовавшись с кем следует, сообщил: тема не будет утверждена ни в каком случае. Но почему? А потому. Не будет, и всё. Я по молодости лет встал на дыбы: тема важная, интересная, не заимствованная. Утверждайте или объясняйте почему нельзя. Ну, мне объяснили неофициально, по-дружески: ты что, чудак, не понимаешь, что тема опасная? Непроходная тема, чудила ты эдакий. Ведь это только в школьных учебниках за белых были дворяне, помещики, фабриканты, высшее офицерство, кулаки да всякий деклассированный элемент. На самом же деле гимназисты, студенчество, мещанство, творческая интеллигенция, рабочие высокой квалификации и даже не менее трети крестьянства были на стороне белых. О духовенстве и говорить нечего. Да ведь и белые были разные: одни монархисты, кстати, бывшие в меньшинстве, другие республиканцы, да ещё разных сортов. Это были известные, но закрытые данные. А я вознамерился их открыть. Нарушить табу захотел. Тему зарезали, меня отодвинули в дальний угол. Ходу больше никуда не давали. Если бы тогда мне объяснили, я всё понял и взял бы другую тему, всё было бы нормально. А я полез в бутылку, показал свою неуправляемость… Серьёзных последствий это для Митина не имело. Ну, переполошилась кафедра, встревожился деканат, но вскоре всё затихло, потекла дальше обычная вузовская рутина. Конечно, кому следовало, тот взял Митина на карандаш с пометкой, надо полагать, типа «склонен к проявлению идеологической неразборчивости». Но ведь это пустяки в сравнении с тем, что могло быть и бывало когда-то. Жить бы да жить после этого Митину, излагать бы да излагать своим студентам по правильным учебникам правильные взгляды на историю. Так нет же, снова дёрнула его за язык нечистая сила. И когда же дёрнула – на собрании, при всём факультетском народе. И собрание-то было пустейшее: созвали в конференц-зал преподавательский состав для одобрения какого-то постановления очередного пленума КПСС. Нужна была всего лишь резолюция, формальность из формальностей. Декан, председательствовавший на собрании, поднимается и зачитывает проект резолюции. Спрашивает: есть возражения, добавления? И вдруг Митин тянет руку: добавление, вернее, уточнение! Вы написали там «Одобрить последнее постановление и политику нашей партии в целом». Но вы не уточнили, какой именно партии, а это излишне подчёркивает однопартийность нашей политической системы. Во всех других странах, даже социалистических, многопартийность, и там принято уточнять, о какой партии идёт речь. Предлагаю и нам уточнить, а то наша резолюция не будет понятна коллегам за рубежом. Кроме того, не все здесь присутствующие являются членами КПСС, и говорить про неё «наша партия» будет для них некорректно логически. Собрание окаменело. Прекратились ёрзания на стульях, покашливания, перешёптывания. Только двое или трое ехидно заулыбались, как он завернул-то насчет коллег и зарубежа, да и то заулыбались нагнув головы и пряча улыбки. Декан быстро овладел собою (он был тёртый калач, видел всякое), и ответил вежливо так, вкрадчиво: ‒ Товарищ Митин, видимо, забыл, что так называемая многопартийность в зарубежных странах является ничем иным как маскировкой фактического монополизма какой-то одной политической силы, а это вовсе не является подлинной демократией, как известно. Многопартийность, товарищ Митин, к подлинной демократии отношения имеет очень мало. – И в социалистических странах тоже? ‒ с видом святой наивности спросил Митин. Декан поперхнулся. Продолжать эту тему, значило развивать опасную политическую дискуссию. На ровном, что называется, месте. Поступил декан решительно и мудро. ‒ Замечание о названии в принципе верное, нашу партию (он сделал ударение на слове «нашу») следует называть её полным официальным именем. Давайте проголосуем. Быстренько проголосовали и разбежались. А Митина со следующего месяца приказом ректора услали на подготовительные курсы. И читать он стал не лекции студентам, а вопросы из школьной программы абитуриентам. Это было понижение на грани оскорбления. Но он стерпел, и терпит до сих пор. Договор не разорвали, из вуза не уволили с волчьим билетом. С большой карьерой приходилось распрощаться, и всего лишь. Ещё спасибо можно было сказать. Только вот в заработке потерял сразу существенно. Но это он сумел возместить очень скоро. Подготовительные курсы – прямой путь к сердцу абитуриента, а также к его кошельку. Проще говоря, репетиторствовать стал мой дражайший сосед. Честно он мне признался: зарабатывать стал даже больше, нежели до понижения. Неофициально, конечно. А вскоре что-то стронулось во всей нашей стране, запахло переменами. Перемены начались с меня: я поблагодарил за трудовую деятельность свою добрую старую пишущую машинку «Москва» и отправил её на пенсию, на антресоли, а сам принялся постукивать, уже не так звонко, на клавиатуре компьютера. И сделал это очень вовремя, так как у Митина за стенкой обострился слух, улучшился чуть ли не вдвое. Нет, не чудо с ним произошло, напротив, стародавние врачи дали верный прогноз, слух его стал ухудшаться. Просто при моральной и организационной моей поддержке он приобрёл, наконец, слуховой аппарат. Каюсь, я был заинтересован в этом, так как разговаривать последнее время с ним стало для меня испытанием нервов и голосовых связок…
Много прошло времени и много произошло чего со дня моего знакомства с Георгием Митиным. Я распрощался со своей восьмиметровой комнатой и со всей той коммунальной квартирой, получил от городской власти собственное отдельное обиталище в виде однокомнатной квартиры на девятом этаже панельного совсем нового и, увы, удалённого от центральных районов дома. Митин тоже получил от города жильё «на улучшение». Получил, но остался на прежнем месте. Нет, он не отказался от полученного и не стал жить на два дома. Просто, по моей подсказке и, не скрою, с моей помощью он получил в добавление к своей комнате мою бывшую восьмиметровку. Улучшение, таким образом, состоялось, и с очереди его сняли по взаимному соглашению. Как он был доволен этим вариантом, невозможно передать. Переезда он боялся, в новые районы не хотел категорически, и вообще был готов ничего не менять. И вдруг, о, чудо, стал обладателем сразу двух комнат! Плотник Соловихин по-соседски (но за плату, разумеется) соединил две комнаты дверным проёмом, и комнаты сделались смежными. Радуясь за Митина, я испытывал душевный комфорт, бывая у него в гостях, сидя за чашкой чая, или чего-то покрепче, в своей бывшей комнате, где оставались всё те же привычные мне обои, тот же тёмный дубовый паркет и та же самая тахта, столь долго служившая мне спальным ложем. Только «профессорский» письменный стол переехал из той комнаты в эту, заняв теперь не четверть, а добрую треть комнатной площади. Огорчала меня неспособность Митина поддерживать в своём жилище уют и порядок. Как была его прежняя комната замусорена и завалена в полнейшем беспорядке книгами, одеждой всех сезонов, обувью, посудой, прочим хламом, как была дыра в окне заткнута скомканной старой тряпкой, так и оставалось всё в привычном своём виде. Вот и новая его комната постепенно стала приобретать тот же вид, как ни старался я привить моему старшему другу привычку к аккуратизму. Ещё был один пунктик, бзик, у моего любезного соседа: он боялся сквозняков. Откуда взяться сквознякам в этом дворе-колодце? Что до меня, я был бы только рад любому движению воздуха в нём, но движения не было, и когда я здесь жил, моя форточка, а летом всё окно, были распахнуты настежь. Митин же держал своё окно всегда закупоренным напрочь, воздух в его комнате был затхл, тяжёл и отдавал кладовкой. Очень редко, и лишь при моём участии, он комнату свою проветривал, открывая на несколько минут форточку, а на эти минуты уходил в кухню. В прежние времена, заходя ко мне в келью, он первым делом с тревогой глядел на окно, затем, умоляюще, на меня. Я, уже зная, о чём он попросит, беспрекословно затворял окно, и его лицо сразу светлело, приобретало обычное доброжелательное выражение. Приходилось мириться с такими его, конечно, невинными, недостатками и утешать себя сознанием, что человек несовершенен по самой своей природе. Других недостатков у Митина я не видел, а уж такое-то несовершенство можно было и простить. К тому же, Митин и его жилище были две большие разницы – сам по себе он был вполне опрятен и ухожен, регулярно мылся, стригся, подбривал свою учёную бородку и усы, носил лишь чистые сорочки и, представьте, даже пользовался иногда парфюмом. Впрочем, он был вынужден блюсти себя, иначе мог лишиться своих абитуриентов-частников, поскольку обращались к нему их родители, которые и оплачивали его репетиторство.
В газете, где я сотрудничал, сменился главред. У руля стала женщина, молодая, пробивная, прогрессивная, пообещавшая вскоре некие перемены во всём нашем цехе и чуть ли не в обществе. За глаза мы называли её «мамой», хотя по возрасту она годилась нам, самое большее, в старшие сёстры. Иногда мы ещё называли её «нашей главной надеждой», имея в виду её имя Надежда и то, что она – главный редактор. Говорили, что её муж занимает серьёзное положение где-то там, в верхних сферах, и от этого у нас будет поддержка и защита от чрезмерных цензурных ограничений. Но уже веял, реял, гудел над страной ветер очень крутых перемен… У газеты сменился главред, а у державы сменился генсек. И было понятно, что это не просто очередной новый портрет в каноническом иконостасе. Общество воспряло духом, напряглось и стало ждать: что будет?.. ‒ Не знаю, не знаю… ‒ бормотал Митин, разглядывая в газете сквозь очки портрет нового отца нации. – Пока только молодость в его пользу. Да и то, какая это молодость, ему ведь за пятьдесят, он практически мой ровесник. Подождём, посмотрим. Взглянуть бы на него живьём, послушать бы живую речь без правок и купюр, вот тогда станет понятно, что это за человек и чего от него ожидать. Я, как и Митин, не испытывал большого доверия к этому якобы молодому и якобы демократичному персонажу. Что-то в нём меня настораживало, настраивало против него. Прошло немного времени, и я лишь утвердился в своих опасениях, а Митин вынес свой собственный приговор: ‒ Нет, не верю я ему. Нет в нём искренности. Балабол! Отпускает сейчас вожжи потому, что ситуация безвыходная, нет у нашей верхушки сейчас вариантов кроме послаблений. Они наверняка считают это временным отступлением, вроде нэпа в двадцатых годах. Но вот что они будут делать если ситуация выйдет из-под их контроля? Если плотину прорвёт? Плотину ещё не прорвало, но размыло уже так, что было непонятно, как можно загнать назад эти разлившиеся по широкой равнине потоки. Дышать и, главное, писать стало и вправду намного свободнее. Вскоре мы, журналисты, осмелели настолько, что стали подвергать строгой критике самого инициатора выгодных нам послаблений. Никакая плотина не могла уже сдерживать никого. Инициатор созвал что-то вроде общенародного совещания. Делегаты прибыли в Москву со всей страны, но не от территорий, а от курий, будто в средние века. Делегация от учёных, делегация от рабочих, делегация от писателей, от художников, от духовенства… Ничего абсурднее в конце двадцатого века невозможно было придумать, утверждал Митин. Был ведь прекрасный пример ‒ Учредительное собрание в 1918 году. Митин страстно критиковал этот странный, бессмысленный, на его взгляд, форум и ратовал в наших с ним разговорах именно за Учредительное собрание. И вот тут меня осенило: ведь пришла его пора – пора Митина и других таких митиных. Все прежде запретные мысли, идеи, теории, все они теперь могли быть провозглашены во всю мочь. И уж кому как не моему старшему другу-наставнику взяться за этот гуж! Я предложил ему написать статью в этом русле и пообещал протолкнуть её в нашей газете. В том, что у меня это получится, я был уверен на сто десять процентов. Реакция Митина на моё предложение меня удивила. Он растерялся. Или даже испугался. Стал говорить, что у него сейчас много слушателей на подготовительных курсах и много частных уроков, что общество ещё не готово к смелым решениям, что ему прежде надо хорошо подумать… Наконец, уступил моим настояниям и пообещал статью дать. По моим расчётам, статью вроде задуманной можно было написать за день-два. Я бы управился за один вечер. Но прошла неделя, вторая, третья, четвёртая… статьи всё ещё не было. Почти месяц спустя, после моего очередного, сердитого уже, напоминания, Митин сообщил по телефону, что, пожалуй, текст готов. Мы встретились коротко у метро (я занят был ужасно в эти дни, строчил опус за опусом в каждый очередной номер), он сунул мне кипу своих исписанных от руки бумаг, и только вечером дома я сел их читать. Это было разочарование. Сплошное и обескураживающее. Насколько ярок, смел и убедителен был Митин в наших застольных беседах, настолько же был он осторожен, бледен и невыразителен на бумаге. Сам язык его, сам слог отдавал чем-то учительским, прописным, при этом текст был безупречно грамотным по-канцелярски. Но не возвращать же было ему рукопись со словами «извини, это нам не подходит». Я сел, поработал над текстом, придал, как сумел, ему яркости, слегка сократил, убрал штампы вроде «не подлежит никакому сомнению», «каждому понятно, что», «однако, следует отметить», «думается, можно с уверенностью сказать»… Озаглавил я её – «Куда дуть ветру перемен». В улучшенном немного и уже машинописном виде положил статью на стол нашей редакторше. Она при мне её прочла, недоуменно пожала плечами и, бросив мне, «ну, если ты считаешь это нужным», подписала статью в набор. Через три дня статья была опубликована на третьей полосе нашей газеты за подписью Георгий МИТИН, историк. Быстро всё делалось, писалось и публиковалось в те горячие времена. Конечно, статья прошла практически незамеченной. Произошло это ещё и потому, что за прошедший месяц появилось несколько статей в других газетах, где идея Учредительного собрания излагалась авторами броско и доходчиво. А вот моя статья на целую полосу, опубликованная два дня спустя после митинской, шуму наделала. В ней я проанализировал все действия и все слова нашего генсека-послабленца, разобрал ход и итоги всенародного съезда, и сделал жёсткий вывод, на который ещё раньше вывел меня Митин – балабол! Я и словцо это привёл в своей статье, взяв его, правда, в кавычки и приписав неназываемому человеку из народа. Ещё два месяца назад газете было бы несдобровать, да и теперь главредше передали через третьих лиц неудовольствие верхов и посоветовали впредь давать материалы «взвешенные». Хуже было другое: наши с Митиным отношения словно бы охладились после этой злосчастной и, скажу честно, слабой его статьи. Он был обескуражен правками, которым я был вынужден её подвергнуть. Глупо было с моей стороны так настаивать на её написании. Впрочем, охладилось только его отношение ко мне. Ну, а я лишь посочувствовал ему и огорчился нашей общей неудаче.
Все помнят те три дня, которые потрясли если не мир, то нашу страну точно. Это чудесное, тихое, мирное поначалу, августовское утро. Чудесное летнее утро. Чудесным летним утром на нас напала Германия. Чудесным летним (для Гавайев) утром Япония напала на США. Чудесным летним утром фальшивым, не своим каким-то, голосом диктор зачитал нам невнятную околесицу, из которой можно было понять только то, что теперь, с этого самого часа, мы должны сидеть тихо и больше не рыпаться насчёт всяких прав и свобод. Это было похоже на переворот в духе латиноамериканской хунты. Странное дело – я совершенно не испугался. Более того, я даже не встревожился. Напротив, я взбодрился, оживился, я наполнился азартом. Что-то происходило такое, за чем стоило внимательно следить и концовку чего нельзя было предугадать. Происходило что-то жутко интересное, в первую очередь для газетчика, для журналиста. Я устремился в редакцию, где уже собралась добрая половина сотрудников во главе с нашей «мамой». Она висела на телефоне, а выпускающие редакторы суетились все вокруг одного стола, компоновали макет экстренного номера. Телефоны не умолкали, мы узнавали отовсюду как обстоят дела, что происходит, не началось ли что-нибудь совсем ужасное. Ничего такого пока не начиналось. Громко работали два радиоприёмника, один был настроен на правительственную официальную станцию, другой на оппозиционную. В углу мерцал экран телевизора, там периодически возникала безрадостная физиономия диктора, он зачитывал по бумажке постановление какого-то нового, никому не известного органа власти. Постановление обязывало всех в стране заниматься своим обычным делом, сохранять спокойствие и выполнять распоряжения. Распоряжение пока было одно – заниматься своим обычным делом. Наше обычное дело было – выпускать газету, и именно этим мы сейчас занимались. Номер был почти готов, когда наша главная Надежда, закончив обзванивать знакомых ей осведомлённых лиц, повернулась к нам и сообщила... [👉 продолжение читайте в номере журнала...]
Чтобы прочитать в полном объёме все тексты, опубликованные в журнале «Новая Литература» в августе 2021 года, оформите подписку или купите номер:

|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
В комплектации кофейни по плану требуется установить несколько холодильных шкафа . Цены на сверление сверление отверстий цена. |

