Виктор Сбитнев
ПовестьФантастическая повесть (18+)
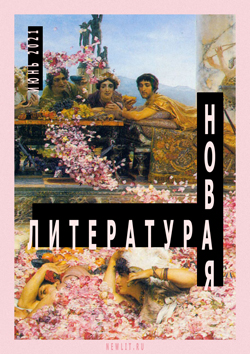 На чтение потребуется 1 час | Цитата | Подписаться на журнал
В первой части повести, рассказывающей о дружбе главного героя со школьным и дворовым бандитом Смыкой, весьма часто встречаются табуированные выражения, а проще говоря, нецензурная брань. Дело в том, что Серёга (гл. герой) вырос в русском селе и затем в городском дворе фабричного района, где речь как взрослых, так и детей, была перенасыщена непечатными выражениями, которые играли важнейшую коммуникативную и социальную роль в жизни советского, а затем и российского общества. Но главное заключается в том, что сама идея повести есть констатация того факта, что русская языковая стихия объективно подошла к времени серьёзных внутренних преобразований. И Серёга одним из первых явственно это ощутил и выразил в форме своих научных статей и диссертации. Автор «Посла из захолустья» исходил также из позитивного опыта таких замечательных писателей, как лауреат премии «Русский буккер десятилетия» Александр Чудаков («Ложится мгла на старые ступени»), и нескольких филологических диссертаций на эту тему. В русских деревнях центральных и северных регионов России попусту не ругались и не ругаются. Нецензурная брань всегда носила в народе весьма точное этическое и эстетическое назначение и употреблялась «умными людьми» исключительно как локальное средство эмоционального воздействия на собеседника без какого-либо желания оскорбить или унизить собеседника. Именно таким образом употребляют её и герои повести, во второй части которой на смену «крепким выражениям» и анекдотам приходит классический русский фольклор.

Светлой памяти новгородского словесника Николая Лаврова
Пролог
«Вначале было Слово… и слово было Бог». По известным причинам, о второй части этой библейской мудрости наши «традиционные» лингвисты почти весь двадцатый век преднамеренно молчали. Герой этой повести, несмотря на то, что едва ли был даже крещён, о Боге помнил всегда, ибо разумел под ним в аккурат «родниковое русское слово». Из любви к божьему слову он всерьёз заболел наукой, из обожания к его первородным носителям значительную часть своей жизни проводил в сельском захолустье, то есть в миру часто не трезвых мужичков и полуграмотных старух, всегда помня о главном: примерно сотня поколений русских людей прожила до него, примерно столько же проживёт после. Но запечатлённое в научных скрижалях слово наше принадлежит Вечности. Им когда-нибудь, в непредставимо далёком будущем, ещё воспользуются сверх-люди, наши могущественные, как боги, потомки. И тогда самым распространённым и привычным в их обиходе словом станет изначальное Бог, которое обессмертит и человеческую речь, и самого человека.
«Азъ есмь Я»Книга мудрости
Первое своё слово Серёга написал рано утром на откидном подголовнике деревенской каменки, куда юркнул погреться прямиком из окутанных клубами пара промороженных сеней. Именно на протопленной с вечера печи бабушка читала ему сказки сельского чудака Ефима Честнякова, и как шестилетний мальчик услышал – так и написал на тетрадном клочке: «баушка», а потом ещё «дедушко» и «Сергиюшко» («Ю» он вспомнил не сразу). Так, с косого печного приступка он и шагнул в сложный и противоречивый мир русской филологии, чтобы когда-нибудь потом, через много-много лет, к ней, русской печке, и вернуться.
«В начале детства школу помню я»Александр Пушкин
Мать забрала Серёгу в Город уже подростком, когда он, казалось, окончательно и бесповоротно прикипел к родному селу и вознамерился окончить в нём школу, а уж потом… Но сельская действительность менялась куда быстрее, чем неторопливо взрослеющее Серёгино сознание. И менялась она в худшую сторону. И не просто менялась, а решительно умирала. Кладбище каждый год заметно подрастало, а избы – одну за другой – забивали с окошек досками и уезжали – кто на Запад, а кто на Восток – по скоростной Транссибирской магистрали. На Серёгиных глазах таким же образом заколотили окошки на колхозной конторе, разрушили местный молокозавод, лесничество и мастерскую ремонта. Затем упразднили школу, ветлечебницу и сломали старинную сельскую церковь, потому как она была деревянной, а за смену прогнивших венцов никто не брался. Без церкви село сразу осело и как-то скукожилось, превратившись в захудалую деревеньку. Поскольку сельские пастухи спились и умерли, бабушка с дедом продали корову (Серёга горько плакал, провожая её в чужие люди), держать свинью им стало не по силам, а тут же последовавшей морозной и бесснежной зимой у них начисто вымерзло двенадцать ульев пчёл. И Серёга понял, что оставаться в родном селе, чтобы учиться в райцентре, обычном рабочем посёлке, за десять километров от дома, просто нелепо. Дед получал немаленькую фронтовую пенсию, которой хватало даже на конфеты и любимый бабулей шоколад. И в случае чего, он всегда им поможет… Огромная городская школа приняла его не то чтобы враждебно, но не преминула указать ему и на его недавнее крестьянское прошлое, и на окающий выговор, и на немодную одежду, и… Однако, в Серёгином подъезде жили ещё двое учеников его школы, годом его старше: отпетые школьные бандиты Смыка и Суслик (Смыков и Суслов), которые вскоре после первого сентября заглянули в Серёгин класс и всех его недоброжелателей запугали заряженными от розеток конденсаторами и резиновыми шнурами. После чего Серёгу не только оставили в покое, но наперебой стали предлагать ему разные мальчишьи услуги. А быстро ставшего Серёгиным другом Смыку, тоже пару лет назад приехавшего из деревни, опасались все, даже учителя. С самого их знакомства Серёгу восхищала та редкая Смыкина лёгкость, с которой он мог заговорить кого угодно: задающегося старшеклассника, робкого малыша, учителей, родителей, директора школы и даже придравшегося к их хулиганствам милиционера. К мату деревенскому Серёге было не привыкать, поскольку в их селе даже у младенцев первым словом было не «мама»… Сквернословили все – от мала до велика, но как-то не грязно, не по-городскому, а, так сказать, в связи с каким-либо понесённым уроном. Например, попал Серёгин дед себе по пальцу молотком – следовала незамедлительная реакция из нескольких накрепко перевязанных половыми признаками слов. Обнаружил сосед Иван Иваныч на крыльце подложенную ему Серёгой крысу – моментально округа наполнялась «половыми членами» и «оральным сексом». И даже в речи председателя Сельского совета Павлика Кабанина, когда он размышлял над местным бюджетом, самым цензурным словом было «бля…». Вот и Смыка, не скупясь, расплёскивал перед обитателями окружающего мира всю полноту своих самых искренних «запущенных» этим миром метафор: «Слушай, Лось (такую кличку Серёга получил за свой высокий рост и осанку), я залез к училке в стол, думал взять твой дневник, а там х… ночевал». Или: «Хорош, Лось, пошли! Хватит «п…ду в лапти обувать!» Кстати, мир, в котором они жили, Смыка называл «е…чий свет», а вместо «как дела?», «пошли» и «быстрее!» он отчего-то произносил армянские «вон цес?», «гнацинг» и «шутара!». Уже тогда, в школьную пору, Серёге казалось, что Смыка когда-нибудь станет великим композитором, потому что когда он говорил, то было ощущение, что ты слушаешь какую-то странную, местами грубоватую, но вместе с тем удивительно притягательную и словно от века существовавшую, но только теперь подобранную музыку. Иногда Смыка делился с Серёгой своими впечатлениями от какого-нибудь вчерашнего концерта на ТВ: «Знаешь, Лось, вчера иностранцы пели, и всё по-английски: и немцы, и шведы, и поляки. Но потом наш этот… как его, бл…!, конферансье, объявляет: «А сейчас японская певица Не то сика – не то кака исполнит песню сомнения «А тому ли я дала?» И Серёга ощущал и японскую фонетику, и эту печальную островную интонацию. Но особый дар Смыка имел по части похабного анекдота. Причём, он аккуратно распределял анекдоты по разделам, из которых самым обширным и колоритным был раздел анекдотов про ЗПО. ЗПО, или в простонародье «жопа», в Смыкиных анекдотах поднималось до уровня одной из основных категорий всей русской философии и эстетической основы устного народного творчества. Например, никак не могли обойтись без жопы Чапаев и Петька, когда отдыхали после боя. К примеру, «катает Василий Иванович на пальцах какой-то мягкий комок и мучительно размышляет: «А как думаешь, Петька, это говно или пластилин?». Петька тревожно оглядывается: «Да, говно, наверное, Василь Иваныч!». Чапаев облегчённо вздыхает: «Вот и я тоже думаю, откуда в моей жопе пластилину взяться?». Или знаковый анекдот про сытно живущих советских офицеров: «Плывут два сперматозоида по реке», – Смыка загадочно улыбается. Серёга не понимает – по какой ещё реке, на что Смыка объясняет непосвящённому другу, по какой такой реке могут плыть сперматозоиды. «Так вот, – продолжает он. – Один сперматозоид спрашивает другого: «Гена, а ты кем станешь, если удастся в человека превратиться? И тот отвечает: «Офицером, конечно! А ты?» – «И я – офицером!». Тут третий вплывает и пропащим голосом: «Господа офицеры! Нас предали… Мы – в жопе!». От таких анекдотов смеялся даже сверхсерьёзный сосед со второго этажа, слесарь шестого разряда дядя Юра по кличке «А помнишь, как мы в Мадриде?». Просмеявшись, он говорил Смыке с Серёгой что-нибудь типа «Хорошие вы, блин, ребята! Таких ребят мало с п…ды кроят, всё больше с жопы забирают!». Много позднее, услышав от Серёги эту пословицу, немецкий лингвист Отто, занятый собиранием русского фольклора, возбуждённо воскликнув «Вундербар!», попросит своего русского коллегу уточнить: «А что всё-таки значит эта ссылка на гомосексуализм? Ведь от однополого акта не рождаются дети?». И Сергей, снисходительно похлопав учёного немца по плечу, скажет, что, прежде всего, «укоренённые русские люди» в своём словотворчестве обращали внимание на акт эмоционального воздействия, где сам смысл играет второстепенную роль. В данном случае, «жопа» – самоценная лексическая единица, которая сама по себе несёт заряд эмоций, как всякое непечатное слово или выражение. Но есть тут и, я бы сказал, глубокий социальный и даже исторический смысл. Мы с моим другом, которому эта пословица была адресована, принадлежим к весьма малочисленному поколению. Наши матери и вообще женщины той поры либо рожали редко (одного – двоих), либо не рожали вовсе. Был такой период вскоре после войны. Отсюда и «жопа»!». «Да, я понимаю, – грустно отвечал немец. – У нас тоже был такой период. Впрочем, он и сегодня ещё не закончился. Шопа, Сергей, продолжается почти по всей Европе».
«Любуйся ими и молчи!»Фёдор Тютчев
Серёга любовался отдельными словами и оборотами уже с детства, но молчать про эту любовь у него никак не получалось, а потому после выпускного он подал документы на филологический факультет. Парней с ним поступало немного, и он легко преодолел хоть и немалый, но в основном созданный девушками конкурс и стал неторопливо привыкать к гораздо более свободному, чем школьное, университетскому существованию. Скоро он понял, что в течение семестра большинство сокурсниц особо не утруждают себя конспектами и, откровенно пренебрегая даже подготовками к семинарам, занимаются личной жизнью, в связи с чем в университетской общаге процветали сверхсвободные нравы, и ходить туда, к чему постоянно подстрекал далёкий от студенческой жизни Смыка, Серёга не любил. Но однажды, до изнеможения доведя себя «юсами» и «ятями», он согласился, и они на пару оказались в комнате у старосты Серёгиной группы Верки Муриковой, которая приехала в Город откуда-то из-под Тамбова. Общительная Верка тут же позвала двух подружек со старших курсов, и Смыка, как он потом с волнением вспоминал этот визит, «погрузился в пучину разврата». Домой они вернулись на следующий день, изрядно помятые и опустошённые. Смыка при этом забыл «в гостях» плавки и паспорт. Паспорт потом Серёга ему вернул, а вот в плавках, видимо, купались уже какие-то другие люди – может, и из-под Тамбова. На втором курсе Серёге впервые пришлось писать курсовую работу по современному русскому языку, который в числе прочих преподавала пожилая профессор Строгина. Она заинтриговала ставшего к этому времени круглым отличником Серёгу, на первый взгляд, весьма рядовой для его чуткого уха темой – «Имена собственные в пьесах Александра Островского первой половины творчества». Серёга открыл пьесы и впервые до глубины души был поражён «действующими лицами», которые даже безотносительно к самим пьесам, то есть сами по себе, показались ему подлинными произведениями искусства. То и дело заглядывая в словари, он писал легко и вдохновенно, как будто становясь соавтором знаменитого драматурга. Некоторые позиции он перечитывал по нескольку раз: «Роман Дубровин – беглый посадский». В словаре значилось, что Роман – значит нездешний, пришлый. Дубровин – ясное дело, скрывающийся в дубравах, то есть в дремучих лесах. А «беглый посадский» – значит, проворовался на государевом деле, то есть пронырливый чиновник. А в результате получается жулик в кубе! Круче Чичикова! Да, и другие имена отрицательных персонажей не уступали. А вот положительные герои в этом отношении как-то не впечатляли. Словно гениальный реалист Островский делал какое-то послабление классицизму, и в его по-пушкински гудящие жестоким временем драмы и трагедии переползали откуда-то из Княжнина или Сумарокова все эти Добросклоновы и Правдины. В конце концов, он так и заключил в эпилоге своей курсовой, что «имена положительных героев сахаристы, отдают патокой и невольно бросают тень на их духовные способности и реальные поступки». Строгина была более чем довольна. Её порадовали, как она призналась, Серёгины заинтересованность, честность и завидный слух на русское слово. Кроме того, она крайне заинтересовалась введённым Серёгой в оборот новым для языкознания термином – валентность звуков, слов и синтаксических конструкций. По Серёге получалось, что одни слова как будто льнут друг к другу, а другие – наоборот, всячески избегают находиться рядом. То же касается и звуков и отчасти – «фонетических цепочек», то есть сколько угодно долгих звукорядов». Здесь Серёге помог богатый опыт символистов и Блока, которого Серёга любил с начальной школы, располагая его пузатым сборничком из Малой серии «Библиотеки поэта». Ключевая глава его курсовой имела говорящий эпиграф: «Слова кивают друг другу помимо своих смыслов». Когда Серёга несколько остыл от Островского и символистов, к нему заглянул Смыка с предложением пойти на Вал (старую часть Города опоясывал земляной вал тринадцатого века) и выпить портвейна под печёную картошку. Серёга попросил Смыку подождать его с полчаса во дворе – дескать, надо придумать концовку для статьи в межвузовский сборник. Смыка согласился, но вскоре расселся у Серёги под окнами и выставил на стол под домино огромную бутылку какого-то фруктового вина. Мало этого! Вскоре он стал с прогибом ходить вокруг стола и демонстративно разминаться, как пред серьёзным спортивным состязанием. Серёга показывал ему свои огромные кулаки, но было тщетно. Филологическое настроение истаивало, как песок сквозь пальцы. Вскоре Серёга зло плюнул, сложил в пакет оставшуюся в ведре под раковиной картошку, прихватил свежего ржаного хлеба, огурцов, соли, два стакана и вышел вон. Увидев заметно расстроенного Серёгу, Смыка проворно смахнул со стола бутылку вина и опустил её в Серёгину сумку. – А что, не портвейну взял-то, Смык, а этого плодово-выгодного? – с укором спросил Серёга. – Да, е…ть мой лысый череп, не хватило мне на портвейн, – виновато признался Смыка. – Точнее, хватало, но на одну бутылку. А так… я пару зацепил. Теперь, Лось, у нас с тобой вся жопа в шоколаде! – И Смыка продемонстрировал свой распухший карман. – Ой! – воскликнул Серёга. – И башка с него будет гудеть! А мне завтра с научным руководителем встречаться… Как дыхну на него, так и уж точно… жопа! – Не печалуйся, Лось! – попытался подбодрить Смыка. – Завтра будет завтра! Слушай лучше свежий анекдот: «Петька Василь Иванычу загадку загадал. Типа – два конца, два кольца, а посредине – гвоздик? Ну, Чапаева сразу осенило! «Жопа!» – говорит. «Нет, Василь Иваныч, ножницы». Ну, Чапаев в печали, а Петька новую загадку предлагает: «Без окошек, без дверей, полна горница людей»? Чапаев возбудился и говорит: «Ну, это уж точно жопа!» «Увы, Василь Иваныч, огурец!» – отвечает Петька. Ну, после этого подходит Чапаев к Фурманову и говорит: «Слышь, комиссар, отгадай загадку: без окошек, без дверей, полна жопа огурцов?» Тот в полной растерянности… А Чапаев ему: «А вот Петька утверждает – ножницы!» Серёга подавился смехом, а Смыка направился к Валу, с которого почти тысячу лет назад его предки скидывали и татар, и шведов, и тевтонов. И, между прочим, оставили по этому поводу несколько скабрезных шуток, не оценив которых, немцы в 1941 году вновь забрались на этот вал, чтобы в который уже раз кубарем катиться с него, по ходу теряя оружие и остатки боевого духа. На Валу они сели на едва угадываемый край обвалившегося и густо заросшего травой окопа и молча выпили за тысячи русских, которые легли здесь за последнюю тысячу лет.
«Кто был для единого слова рождён»Олег Чухонцев
Получив диплом, Серёга около года проработал сельским учителем, но потом его отозвали на кафедру русской литературы преподавать поэтику, стихосложение и читать сразу несколько курсов по истории словесности. Тут же он – в основном будущей зарплаты ради – поступил и в аспирантуру, ориентировочно обозначив тему своей кандидатской – «Мотивы снега и вьюги у Пушкина и Блока». Белого снега у обоих поэтов было куда больше, чем зелёной травы, а потому для начала Серёга скрупулёзно изучил само свойство цвета и его преломления: белая гвардия, белый билет, дельфин белуха, белый гриб, белый стих, Андрей Белый, переписать набело и тому подобное. Потом он пришёл к выводу, что в «Евгении Онегине» у Пушкина снег везде блестит и радует глаз и душу, а у Блока снега даже в «Снежной маске» холодны и равнодушны. Вместе с тем, снега пушкинских «Бесов» и блоковской «Незнакомки» роднит мистика и предчувствие потусторонних сил. Однако, уже через месяц напряжённой работы Серёга стал выдыхаться, всё отчётливей понимая, что весь этот городской романтизм – не его стезя. С детства его манила и чаровала простая и причудливая народная речь… даже если порой она «сдабривалась» то яростной матерщиной не успевшего уклониться от бычьей струи колхозного скотника, то душераздирающими откровениями какого-нибудь загулявшего сельповского бухгалтера. Он пронзительно ощущал её изюм и с ходу ловил её музыкальную волну. Пришлось менять тему, а следом и кафедру: благо, на кафедре современного русского языка его хорошо знали и не скрывали своего расположения, как к подающему надежды молодому языковеду и фольклористу. Оформившись переводом с кафедры на кафедру, Серёга, почти не адаптировавшись к новым реалиям, махнул в долгосрочную командировку на село – собирать редкие слова и обороты. Кафедрой руководил не молодой уже профессор Бабочкин – знаток народной лексики и фразеологии, который знал родную область, как свои пять пальцев, и мог с ходу на слух легко определить – из какого района и даже из какой конкретно деревни – говор, а то и характерное словечко. Посидев с час над диалектной картой, они сообща определили цель командировки, её сроки и предполагаемые результаты. С этим Серёга и отправился домой собираться. Но возле дверей его поджидал Смыка. Взгляд он имел пронизывающий, как рентгеновский луч: – Вон цес, Лось? – спросил он якобы равнодушно, но в то же самое время аккуратно вытягивая правой рукой из оттянутого кармана поллитру «Лучистого», а левой красноречиво обозначая срочную потребность пообщаться. Серёга, почти досадуя, развёл руками и стал отпирать дверь. Смыка в это время успел достать ещё одного «Луча», уже гораздо большего объёма. «И где он их находит? – расстроено подумал Серёга. – Видно, где-то в народных толщах… Ладно хоть не самогон». До отдалённого райцентра, в котором ему предстояло пересесть на автобус до крупного приозёрного села, электролинии ещё не проложили, и куцый состав кое-как тянул небольшой старый тепловозик, очевидно поставленный «на вооружение» сразу после отставки паровозной тяги. Вагоны тоже были послевоенного образца с жёсткими блестящими лавками и кое-где растрескавшимися зеркалами. Они скрипели и лязгали на стрелках, а на станциях шумно травили воздух. Впрочем, Серёге такая езда скоро пришлась по душе: он ехал за народным словом в сугубо народном вагоне и, как положено народнику – с изрядного народного похмелья. «Молодец, Смыка! – Думал о своём приятеле-бандите Серёга. – Достойно проводил друга». Переночевав в двухэтажной районной гостинице, Серёга без проблем погрузился в полупустой «Пазик» с тем, чтобы через час вывалиться из уже забитого до упора салона на оставленную кем-то зловонную кучу. С неё на него тут же попыталась пересесть целая туча крупных зелёных мух. Последних он быстро разогнал приготовленным для нестандартных ситуаций полотенцем, а вот сильно перепачканные ботинки пришлось мыть в придорожной канаве. Но уже за первым поворотом он опять наступил на кучу и, обречённо махнув руками, прямо так и побрёл до первой своей хозяйки. Звали её Дарья Петровна, или просто тётя Даша. Она, поняв всё по запаху, дала Серёге полынный веник и жёсткую из свиной щетины щётку. Было ей явно за семьдесят, но по подворью вольготно гуляли два поросёнка и несколько десятков кур, а рано утром в стада ушли корова и полдюжины овец. Тут же они уговорились, что Серёга будет у неё не только жить, но и троекратно столоваться. Уплатив сразу же за неделю, Серёга рассказал женщине о цели своего приезда и попросил, если не трудно, назвать местных жителей, которые наиболее разговорчивы, а также знают старые песни, бывальщины, разные истории и шутки. Тётя Даша посоветовала постояльцу для начала сходить в сельмаг в аккурат к привозу хлеба: дескать, там обычно к этому времени собирается почти всё местное «обчество», и все калякают о прожитом. Серёга сразу же согласился, потому что уши в его деле всегда были самым главным «фоноскопом» и «словоловом». Говор самой тётки Даши он уже успел не только записать на диктофон, но и классифицировать по диалектной схеме. Как и большинство коренных жителей востока области, она не говорила, а практически пела, при этом превращая все многочисленные глаголы в своей речи в неправильные то ли причастия, то ли деепричастия: не ушёл, а «ушотцы» или «ушедши», а также «поемши», «нажрамши» и даже «насрамши» (про свиней). Муж её был «померши» от полученных на войне ранений, а дети «уехавши» в Город. Иногда «наезжацы» внуки, но сейчас они «на воздусях» в каком-то детском санатории или лагере. У Серёги тут же сложились строки:
Не простится нам, если забвенья пороша Заметёт это слово, ровняя межи… В мой ложится блокнот: «Побрела потихоша», «Вот рахманый, хоть к ранам его приложи»…
Ещё тётя Даша посоветовала Серёге держать ухо востро с местными пропойцами, которые «вконец оборзевши» и наверняка будут «приставаши» с «проставой» за приезд... Сердечно поблагодарив, Серёга тем не менее решил про себя, что, конечно, проставится, но с дальним прицелом… Надо пару-тройку мужичков «зарядить на слова»: проинструктирую под это дело и пусть несут, кто что узнает и услышит. Тем более, в магазин, по тёть Дашиной информации, приходят и из трёх окрестных деревенек, где местные ларьки давно закрыли, и лишь раз в две недели туда приезжает районная автолавка. Кстати, там, скорее всего, и выговор другой: тут, что ни деревня, то в каждой свой язык и внятные только её жителям словечки. А, прежде всего, за ними, словечками, я и приехал в эту Пустынь (село, куда прибыл Серёга, в аккурат так и называлось). До магазина от порядка (улицы), на котором Серёга теперь жил, вела не дорога, а всего лишь узенький натоптыш (тропинка), на котором было не разойтись даже с семенившей навстречу собакой. Серёга на всякий случай отступил с тропы в какую-то разросшуюся фракцию и неловко угодил левой ногой в упругие стебли козьей колючки. Поскольку он неосмотрительно успел переобуться у тёти Даши в лёгкие открытые сандалии, ощущение при этом было крайне неприятным. Пришлось усаживаться на скамейку под ближайшим палисадником и выдирать из покрасневшей ступни десятки смятых зазубренных иголок, что было и сложно, и болезненно. Уйдя с головой в это крайне неприятное занятие, Серёга не заметил, как из-за спины к нему подошёл низкорослый мужичонка в фуфайке и кирзовых сапогах. Серёга совсем не слышал его шагов, а просто обернулся на густую волну сивушного духа, который окутывал подошедшего на несколько кубических метров соприкасаемого пространства. – Никак на козловик налетел? – спросил сочувственно мужичонка. – Тут их, бл…, как железов посля войны. Моя баба вчерась, зря, что здешняя, а с дойки шла, зевнула и… обрушилась ногой. Ходить больно. Сидит – огурцы солит… – Это очень плохо! – зло выговорил Серёга. – Мне не ходить нельзя, иначе зачем и ехать было в такую даль? Вас как зовут, уважаемый? – Селиваном кличут, - отвечал присевший рядом мужичок. – А полностью Селиванов я, Иван. Трактору моему п…ц! Так, чичас коров пасу, силос квашу, бидоны грузим на тележку… – А меня, Селиван, Серёгой зови. – С некоторым городским превосходством невольно вышло у Серёги. – Я к вам за словами приехал… ну, местным говором, выражениями разными, поговорками и даже частушками. Вот тропинку, возле которой я на эту «мину» наступил, вы зовёте «натоптышем», а, например, слово «это» как по-вашему? – Эва, – быстро, без раздумий отвечал Селиван. – Да, я слышал прежде, – согласился Серёга, – но только «эва» не вполне «это», но ещё и «так», «да» и прочее. Порой даже, как «ах» или «ой» употребляется. Слушай, Селиван, а скажи мне, дорогой, отчего вы в Пустыне или там в соседнем Борке говорите «наемши» вместо наелся, «чишут» вместо чихают, «али» вместо разве, «хвостить» вместо врать, «ярмонка» вместо ярмарка, хотя прекрасно можете говорить и правильно, то есть на русском литературном языке? – А зачем здеся на вашем калякать? – хитро улыбаясь, в свою очередь спросил Селиван и осклабился. – Нешто наш говор хужее гороскова? Понимашь, Серёга, воздух у нас тута другой, середь скотины живём и дубрав… Рази здеся можно калякать по-городскому? И Серёга вдруг заметил под правым Селивановым глазом набрякшую слезину. И сразу понял всё-всё, над чем беспомощно бился целый год до этого. С Селиваном Серёге было гораздо интересней, чем с кафедральными дамами, не говоря уже про московских фиф. А с тётей Дашей жилось под одной крышей так же уютно и ладно, как когда-то давным-давно с бабушкой и дедом. Она несколько раз гладила его по голове и чмокала в щёчку. Познакомился Серёга на прогоне (главная улица, по которой возвращались к хозяевам коровы, овцы и козы) и ещё с несколькими обходительными старушками, которые отчего-то дали ему прозвище Учител. Каждая из них считала своим долгом регулярно приглашать Учитела на чай с вареньем, а то и на блины. Так что Серёга дней через десять заметно пополнел. Но особое трепетное чувство он испытывал за записями их долгих певучих рассказов о бездумной коллективизации, о жестокой войне и невзгодах послевоенного времени. Даже фольклор той поры был чрезвычайно мрачен, если не сказать, трагичен. Когда Серёга уезжал из села, много где в избах по Прогону распахивались окна, и ему благодарно махали вслед. А три одинокие старушки во главе с употребившим по этому случаю Селиваном вышли с ним за околицу и долго говорили ему добрые памятные слова. У него невольно выступили слёзы и он, скрывая своё смущение, заторопился к подъехавшему «пазику»:
Снова машет рукой чья-то мама седая, Утопает в оконной глухой полынье… Это тяжко, поверь, – говоря «до свиданья», Понимать, что «прощайте», пожалуй, верней.
Потому что сюда ты вернёшься едва ли: Новым вёрстам и встречам наступит черёд, И в иные российские дальние дали Родниковое слово тебя поведёт.
«И гений – парадоксов друг»Александр Пушкин
…Едва доковыляв до квартиры и кое-как справившись с двойным замком, Серёга сел в прихожей на обувную полочку и долго сидел так, пока вдруг не ощутил, что засыпает. Самое странное, что он в этот день не выпил и грамма спиртного и с утра был готов хоть на Эверест. И вдруг вся его фольклорная экспедиция ударила разом из всех стволов: во-первых, он за месяц деревенских переездов и переходов вымотался физически, во-вторых, у него болел желудок от постоянной сухомятины и консервов, и в-третьих, что самое главное, – он полностью исчерпал свой непоколебимый доселе дух. Раньше он наивно полагал, что вполне справится со всеми сельскими проблемами хотя бы потому, что научился соединять в себе деревенское сельпо и московский маркет, баварский диалект германцев и понятийный морок северных славян. Но по ходу своего пребывания в Приозерье стал понимать, что его дух слабеет и что свои научные задачи он без этих «древлян» никогда не решит! Тут же вспомнилась Серёге, на первый взгляд, эпатажная фраза профессора Бабочкина: «У твоей восприимчивости есть оборотная сторона, мальчик! Язык тебя очень скоро выест… до костей!» И вот Серёга явственно ощутил и больные кости, и трепещущую где-то на дне телесного колодца свою бессмертную душу:
Там на случай любой не одна поговорка, Между песней и речью различия нет. Выцветают глаза, но пронзительно зорко Смотрят люди на жизнь с высоты долгих лет.
Много ль в судьбах у них было дней бестревожных, К их хожденьям по мукам останешься ль глух! Хоть разбухнет блокнот мой в скитаньях дорожных – Изболится душа от рассказов старух.
…Загрузив всё грязное в «стиралку» и разложив привезённое аккуратно по полкам, Серёга решил написать краткий отчёт о содеянном. За окнами остывала октябрьская округа, синицы, сидя на карнизах, просили добавки, а внизу, на клумбах, стремительно мутнели и смежались глаза поздних георгинов. Серёга начал с того, что задачу, поставленную в конце августа заведующим кафедрой профессором Бабочкиным, он посильно выполнил. Записал десятки нигде не встречавшихся ранее слов и фразеологизмов, пословиц и поговорок, просто «странных» оборотов, саму природу которых он не в силах постичь в одиночку! Далее он кратко сообщил о конкретных результатах и начертал круг перспектив, которые открываются перед ним, как перед аналитиком развития живого русского языка. Перепечатав, отредактировав всё написанное и трижды скопировав его на всякий случай, Серёга вложил каждую отдельную стопку в большой почтовый конверт, открыл в компьютере новый файл и написал жирным: «Иду к открытию века!» Потом напряжение в нём резко спало, и пришёл долгий и глубокий сон, какой, вероятно, приходил разве что к князю Александру перед броском к устью Невы, куда вальяжно высаживались беспечные шведы. Только перед Серёгой не было враждебной среды. Перед ним упруго сомкнулись десятилетиями незыблемые системы родного языка, на котором от века говорили все его предки, завещая и на века вперёд общаться точно так же, не нарушая основ великорусского наречия. Но Серёга уже давно был с этим не согласен. Следующим утром он поспешил на кафедру, где в факультетском расписании у Бабочкина стояла первая пара на старшем курсе. Серёга решил встретить профессора перед лекцией и договориться с ним о серьёзной беседе на кафедре или в деканате. Еще в автобусе он чувствовал себя крайне беспокойно, словно собрался беседовать не с научным руководителем, который и отправил его в миновавшую вчера командировку, а с каким-нибудь куратором из госбезопасности, который накопил на него мешок компромата. При виде Серёги профессор поздоровался первым и так деликатно, словно предполагал, что молодой учёный готов познакомить его с деталями своего языковедческого открытия. «Мальчик мой, я чую многое по твоему изменившемуся виду. Я рад, что ты превозмог этот роковой для многих барьер и не дал языковой энтропии съесть себя. Я в своё время не выдержал». Серёга понёс на кафедру один из заветных конвертов, на основании которого Бабочкин должен был предоставить ему академический отпуск для завершения кандидатской диссертации. Здесь он, помимо прочих, встретился с аспиранткой Людочкой, смоляной брюнеткой с зелёными, как ухоженный майский газон, глазами. Людочка специализировалась на поэзии «Серебряного века» и рассказала Серёге новый анекдот про голодных символистов-акмеистов и сытого Горького, который зазывал их сотрудничать с Советской властью. Сотрудничать согласился один только Брюсов, а остальные либо отреклись от направления, либо уехали «за бугор», либо были, как Гумилёв, расстреляны. Суть состояла в том, что, в конце концов, Советская власть убила и самого Горького. Смеяться по этому поводу Серёга не стал, а рассказал охочей до снобистских скабрезностей Людочке кое-что из Смыкиных новаций про ЗПО. От них вся она тут же пошла пунцовыми пятнами, а Серёга, хитро развернувшись, сел перед секретаршей и стал выкладывать на её образцово прибранный стол свои отмеченные командировки и подколотые к ним билеты. Когда взвизгнул звонок с первой пары, Серёга вышел в коридор и принял выжидательную позу. Профессор освободился ещё минут через пятнадцать, поспешно раздавая какие-то указания старшекурсникам и аспирантам. И хотя Серёга числился среди последних, к нему Бабочкин относился совсем иначе. И даже не как к коллеге, а словно к какому-то нежданно-негаданно нагрянувшему порученцу с лингвистического Олимпа, у которого скрипел под рубахой почтовым целлулоидом секретный пакет с указанием уже назначенного времени «Ч». К кафе они шли ничуть не торопясь, рассуждая в основном о преимуществах сельской жизни, которой последнее время жил Серёга, а в былые времена неоднократно живал и профессор Бабочкин, защищавший докторскую по диалектной фразеологии. Им говорилось легко и непринуждённо, и Бабочкин, невольно смахнув слезу (тут Серёга вспомнил слезу своего сельского друга Селивана!), признался, что давно ему не было так хорошо за беседой. Кафе было полупустым, и они легко заняли столик у самого окна, которое выходило прямо на набережную. Над ней носились суматошные чайки и изредка подавали голоса буксиры или прогулочные кораблики. С палубы одной из проходящих барж какой-то подвыпивший речник показал им голую задницу, на что профессор весьма серьёзно заметил: – Вот, Сергей, примерно так и рождается русский фольклор! – Лучше сказать, русское народное творчество, – согласился Серёга. – Кстати, задница фигурирует примерно в четвёртой части так называемых абсурдных острот, в которых герои ментально не способны понять друг друга. Это тупиковое состояние так и называется – «жопа»! – Поразительно, но именно этот «термин» наш известнейший академик-русист и сколько-то там раз Герой невольно озвучил после введения Горбачёвым терминов «перестройка» и «ускорение»… – Увы, сегодня в ходу ещё больше терминов, от которых явственно тянет туалетными кабинами, – печально поведал о своих последних политических разочарованиях Серёга, – но мне пришлось в последнее время забыть о политике начисто! Она, извините, шеф, как проститутка за деньги отдаётся любому и каждому, а наш язык, как река: хоть всё время течёт и меняется, но практически не отдаёт ровным счётом ничего ни каменистым берегам, ни прибрежным сёлам, ни этим вон чайкам, которые отчаянно вопят над водой. Разве же воздуху, которым мы дышим… – Ну, во-первых, река отдаёт… Но вы, как погляжу, – филосОф! – воскликнул профессор Бабочкин и потянул на себя сложенную перед Серёгой стопку листов с распечаткой его последних выводов по языку. - Вы недавно говорили мне, – продолжал он, – что лингвистика и литературоведение в свете исследования ими таких языковых фигур, как метафора, по сути, есть одно и то же? – Естественно, – кивнул Серёга, – поскольку метафора не только и даже не столько языковая фигура, сколько лежащая в основе всякого искусства искусная мистификация. Более того, даже сравнения типа «осенний куст рябины, как костёр», став частью художественного текста, неизбежно становятся метафорами: «в саду горит костёр рябины красной». Метафорично практически любое произведение искусства: стихи Пушкина «Я памятник себе воздвиг…», роман Булгакова про Мастера и гениальная повесть Астафьева «Пастух и пастушка», фуги и токаты Баха, скрипичная игра Паганини, папуасы Гогена и «Пан» Врубеля… Да, что я Вам про очевидное! Мы давно живём в мире аксиом, и пришла пора усомниться для начала хотя бы в языке, на котором мы все эти когда-то неприступные крепости создавали! – То есть, эти крепости есть не крепости, а обнесённый единой стеной город! – согласно заключил профессор. – Литературоведение, лингвистика, историография, эстетика, археология… – Да, и археология, – повторил за профессором Серёга. – В студенчестве я однажды ездил в составе экспедиции в Новгород… Ею руководил академик Янин. Мы нашли несколько берестяных грамот, в одной из которых ремесленник около тысячи лет назад рассуждал о единстве всех придуманных людьми ремёсел, потому что изначально сущность человека, его природа – одна. С тех пор ушли десятки и десятки поколений, но я, с двумя высшими образованиями, на своём современном компьютере едва ли придумаю что-то более продвинутое, чем этот новгородец кое-как нацарапал кривой костяшкой по едва разглаженной берёзовой коре. – Это, мой друг, главный исторический парадокс! – воскликнул Бабочкин. – Ты не случайно вспомнил про реку. Державинская «река времён» делает всех нас равными, парадоксально перемешивая академические новации просчитанной на компьютере современности с полупещерным гением мутной поры дохристианского славянства. Ведь наш язык развивался и распространялся уже тогда. Причём, эти процессы шли столь энергично, что появившаяся позднее письменность запечатлеть этих перемен не успела. Наши историки языка смогли лишь реконструировать произошедшее согласно сохранившимся до нас летописям и вот этим самым грамотам, которые вы с Яниным искали в новгородских суглинках. А вообще, я тебе завидую. Янин – безусловный гений!
«Ищу я в этом мире сочетанья…Иван Бунин
…прекрасного и вечного…». Серёга с горестным вздохом захлопнул томик Ивана Бунина и стал искать незатасканную рифму к слову «полинявший». К сожалению, ещё до Есенина это слово появлялось в конце стихотворной строки и соответственно как-никак рифмовалось: «пропавший» (пропащий), «фальши», «краше», «в фарше» и т. п. В конце концов, он остановил свой выбор на ординарном слове «подальше», которое проложило надёжный мостик от невзрачной бытовой суеты холостяцких мужичьих сборов к главной научной сути всех его грядущих дел:
Я закину за плечи рюкзак полинявший: На работу иду, а не в праздный поход. Там, в тиши полевой, от асфальтов подальше Родниковое русское слово живёт.
Там, пока не оставят последние силы, И другая к себе призовёт благодать, Берегут его свято старушки России, Чтоб от прадедов внукам своим передать.
Подумав над легко вылетевшими на бумагу строками, Серёга, поднатужившись, дописывал ухваченную вдруг мысль с уже бросившим его в дрожь надрывом:
Нам ещё подниматься на эти крутизны, Нам ещё сознавать назначенье своё. Собирая слова, постигаешь Отчизну И уроки берёшь у крестьянок её.[1]
Некоторое время он сидел молча и вроде даже задремал. Потом решительно открыл основную главу своей диссертации и стал писать о том, что, в принципе, нет литературоведения и языкознания, как отдельных наук, а есть одна только филология. И филология, в сущности, есть лишь раздел одной общей науки о мышлении и его оформлении Человеком. Всё элементарно, развивал свои мысли Серёга, поскольку значительная часть современной русской филологии тесно привязана к мировой и, прежде всего, русской словесности, которой правит метафора. Поэтому и передовое русское языковедение априори метафорично. Метафора же есть, по сути, не только и не столько языковая фигура, сколько основополагающая философема всей созидательной деятельности человека, ибо она по определению содержит тайну, которую человек стремится раскрыть. Так Серёга проложил себе мостки от филологии к другим прочим наукам – вплоть до самых точных – таких, как стереометрия и квантовая физика. Стереометрия, то бишь пространственная геометрия, например, обязана метафоре самим своим появлением, поскольку альбомный лист, на котором изначально появлялись объёмные фигуры типа конуса, располагается всего в одной плоскости. А творец ухитрился «разместить» в ней ещё целых две (трёхмерное пространство!) и сейчас бьётся в поисках четвёртой! И так далее… вплоть до алгебраических и тригонометрических практик. Неожиданно для себя Серёга обратил внимание на самого метафорического писателя Н. В. Гоголя. Сначала – на эксцентричного «Ревизора», а затем и на азбуку русского реализма – «Мёртвые души». Так, в главе о Собакевиче Гоголь сравнил все вещи в доме неуклюжего помещика с ним самим: казалось, что и стулья, и кресла, и даже дрозд в клетке под потолком дворянского дома красноречиво говорили, что «и я – тоже Собакевич», «или – и я тоже часть Собакевича». Серёгу насторожило, что хоть и «кресло, как Собакевич», или «как часть Собакевича» – по всем нормам русского языка есть классические сравнения, но на поверку они в конкретном художественном тексте становятся метафорами. А в конце концов, и весь текст, за счёт искусного «употребления» этого языкового приёма, превращается в гротесковую метафору, в рамках которой даже гениальный проныра Чичиков теряет ещё недавно чётко очерченные ориентиры. Подобным же приёмом мелкий чиновник четырнадцатого класса Хлестаков легко превращается в «инкогнито из Петербурга» и мудрого советчика самого Государя. Но самым болезненным было для Серёги, что, в конце концов, он пришёл к неоспоримому выводу о том, что... [👉 продолжение читайте в номере журнала...]
Чтобы прочитать в полном объёме все тексты, опубликованные в журнале «Новая Литература» в июне 2021 года, оформите подписку или купите номер:

|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Вешалки плечики для детской одежды металлическая вешалка +для одежды. . Алмазное бурение в москве вакансии. |

