Владимир Захаров
Рассказ
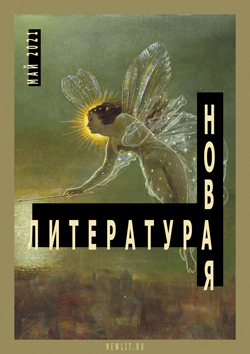 На чтение потребуется 38 минут | Цитата | Подписаться на журнал

…120 грамм сахарного песка, 60 грамм маргарина, 100 грамм муки, 1/5 пищевой соды, одно яйцо…
Левин боится сдвинуться, ощущая навалившуюся угловатую тяжесть. Пробует разлепить веки. Левый глаз прикрыт золотом школьной медали. Лента медали торчит изо рта, будто ещё один за ночь отросший язык. Выгнув шею, Виталий Семёнович осматривается. Пододеяльник топорщится деревянными рамками свидетельств его многочисленных научных достижений. Вспоминает, как перед сном сдирал регалии со стен своего кабинета – тире спальни – тире склепа – и набивал ими мешковину пододеяльника. В области паха, как измождённый пожухлый орган, завалилась на бок бутылка шампанского. Из уретры горлышка вытекли остатки «советского полусладкого». Пятно, и без того насыщенное болезненно жёлтым, в луче солнца из раструба занавесок разгорается янтарём. Крайняя плоть фольги у пробки испещрена бороздами соскобов. Виталий Семёнович смотрит на свои старые руки – и да, под длинными серыми ногтями блестит золотая стружка, будто он лепрекон, всю ночь перепрятывавший горшок сокровищ.
…0,8 литра воды, 150 грамм сахара, 15 грамм желатина, цветные маскировочные ингибиторы…
Вчера профессор Левин – гусарил. Ему даже удалось столовым ножом отсечь горло одной из бутылок. После нескольких безуспешных попыток на бумаге набросал траекторию приложения силы, и математика его не подвела. Всю жизнь извратила, исковеркала, спустила в известное место… но в данном случае не подвела.
…при расчётах оптимальной закладки следует учитывать несущую способность здания, его площадь, особенности скелета строения…
До Левина доносятся нарочитые звуки стороннего присутствия. Он лежит, замерев, так как преувеличенно опасается, что его «одеяло» тут же загремит и выдаст пробуждение. Это, несомненно, жена, Тамара Николавна, вернулась из очередной паломнической поездки. Когда Виталия Семёновича проводили на пенсию, а попросту говоря, вышвырнули из университета, Тамара Николавна, видимо, решив добить его окончательно, стала истово верующей, и их пустынная бездетная квартира превратилась в филиал иконной лавки. Левину казалось, что его непрестанно отпевают, справляя панихиду. И что более всего ужасало профессорское научно-материалистическое воображение, так это осознание, что именно так оно и будет. Жена, с рьяностью неофита, наплюёт на его последнюю волю касательно прощальных церемоний, затолкает в траурный зал какого-нибудь попа с широкими женскими бёдрами, и тот над его высоким бледным лбом затянет молитвенную бодягу. Брезгливо поморщившись, Левин ощутил тошнотворный привкус грядущего.
…самодельные пищевые бомбы, в случае задержания, можно попросту надкусить, нарушив идеальные пропорции взрывоопасных веществ…[1]
Виталий Семёнович недвижно прислушивается к тяжёлой поступи супружницы, неотвратимо приближающейся к дверям. Она разжирела. Преисполнена распирающей бока, переливающейся через акромиально-ключичный сустав, набухающей зобом у основания шеи благочестивой святостью. И он даже немного понимает её. Их взаимная неприязнь настолько устойчиво сильна, что суженую только церковные обеты и удерживают от того, чтобы ночью навалиться ему на лицо подушкой. Ещё и за это Левин презирает церковь. Без неё – всё было бы намного проще. Тамара Николавна обрывает шаг на пороге и в ответ на благоуханное амбре демонстративно «фукает». Левин наблюдает за тем, как она с вящей прилежностью трижды крестит пространство. Он догадывается о том, насколько жалко выглядит со стороны. – С пробужденьицем, Виталий Семёнович! – Благодарствую, Тамара Николавна... Как святые места? Сохраняют ли и поныне следы бесследного? – Вам бы всё ёрничать с умным видом, да веру мою попирать богомерзием? – Тем и обретаемся, не взыщите. – Недели не прошло, как из больницы, а вижу, опять свинячишься? – Хрю-хрю… – Дело твоё, конечно, но за инфарктами следуют инсульты, а за ними… – Боишься, что раньше тебя к боженьке попаду? – Ой ли, к боженьке-то… Левин дотягивается до бутылки шампанского. Взбалтывая её, с сожалением констатирует пустопорожность. Через толстое изумрудное стекло он разглядывает жену, которая, словно джин, помещается в искажённой оптике. Таковое её положение вполне устраивает профессора. Тамара Николавна, с сомнением и не без раздражения, начинает читать акафист Пресвятой Богородице «Неупиваемая чаша». Виталий Семёнович по достоинству оценивает супружний ход, но и у него есть ответные меры. Подхватив с пола трость, тычет белым костяным набалдашником в рычаг проигрывателя. Прекрасная четырнадцатая соната ван Бетховена со страстной бескомпромиссностью заглушает бабьи причитания.
…столько времени живёшь в упоении собственной исключительностью...
Из плотного, взвесившегося над землёй густым медовым маревом солнечного тумана, опираясь на трость, возник Левин. Солнечный свет, внезапно озаривший осенний северный день, для неверующего профессора был тождественен благословлению, и он непременно включил бы его в расчёты возможных доказательств существования Всевышнего. Виталий Семёнович – высок, худ, шаток; с почти негнущейся правой ногой и с застывшей в хрупком заломе душой. Да и от этой самой души (в которую доктор наук, впрочем, тоже не верил), в нём наскребались лишь ветхие останки, словно послед разменявшей кожу рептилии.
…а потом ты синтезируешь камень, которого до тебя не существовало… он почти невесом, с уникальной теплоёмкостью и с особой, неподвластной времени, кристаллической структурой… Гранит 9 – нарекаешь ты его… претенциозный высокопарный сопляк… и в очередной раз подкармливаешь им ощущение собственной исключительности…
Левин так прямо и ввалился в университетскую аллею. После недолгих препирательств с Тамарой Николавной набил рюкзак взрывоопасными кексами и шагнул под облетающие тополя. Составить графический пунктир его маршрута не представляется возможным, так как большую часть пути он похмелялся и был в полусборке.
…под чавкающие звуки собственной исключительности, буквально оглушённый ими, заодно скармливаешь удивительный камень научному руководителю... а спустя десятилетия его престарелая нобелелауреатская задница – греется под солнцем Ниццы, а об твою старую задницу – бьётся рюкзак со взрывчаткой…
Голова профессора, с неухоженной седой шевелюрой и жидкой эспаньолкой, громко урчит Бетховеном. Подглуховатый Левин выкручивает звук в наушниках на максимум. Людвиг ван – обгоняет его, делая ещё более неуместным в будней городской толчее. Так он и вышагивает – погружённый в колкие размышления и пугая встречных прохожих торжественностью неумолимой поступи.
…но и чёрт с ним с камнем… ты ещё молод, и будущее у тебя в кармане… а за тусклыми окнами лаборатории тем временем проносится жизнь… за панорамными окнами аудиторий... в нескольких шагах от кафедры… жизнь проносится, но тебе не до неё, ведь ты на пороге нового открытия…
Неприкаянным бродягой профессор обходит университет по периметру. Надвигает капюшон толстовки на лоб, будто стеснительный нарик. Но его всё равно узнают, и, с раздражением отлипнув от стены, так и не сделавши «закладку», Левин погрязает в пустой болтовне с бывшими коллегами.
…твой плазматрон неожиданным образом оказывает лечащий эффект… Левин – гений! Левин – эскулап!.. Вы не должны скрывать от народа своё удивительное изобретение, и мы выделим вам целый разворот «Наука и жизнь»… на гонорар ты покупаешь волгу, хотя никогда в жизни не водил, и затем в девяностые загоняешь её за бесценок, чтобы свести концы с концами… а спустя несколько лет посматриваешь на расплодившиеся частные клиники, в которых, в качестве особой терапии и за большие деньги – прописывают «Плазматрон Левина»… ой, старик, не то… ляпнешь тоже… они ведь и не знают, что плазматрон – Левина… в китайских иероглифах инструкции твоё имя не значится…
Виталий Семёнович умеет отпугивать узнавантов. Ну, тех, которые его сначала под зад ногой, а теперь облизывают шершавыми языками, славословя прошлые заслуги. Он стремительно, чтобы не успели опомниться и не отпрянули от ядерного перегара, надвигается на них и заговорщицки так, с миной особого доверия на лице, интересуется: «А сколько в университете наших единомышленников?» – «Единомышленников?» – недоумевают бывшие коллеги, оглушённые токсичным выдохом. – «Конечно! С заграницей я контакты наладил, остаётся только здесь завербовать как можно больше сторонников теории плоской земли. Н-но… впрочем… – с расслабленной улыбкой деменции, похлопывает он по плечу собеседника. – Это будет несложно, ведь вещь-то очевидная, и спорить тут не о чем». Обычная реакция на такие его подкаты – снисходительный сочувствующий смех. А затем – торопливое отстранение, словно он прокажённый, и способен и в них поселить неизвестные науке бациллы, лишающие даже такой умище, как Левин, последнего достоинства. Ему несложно изображать старческое слабоумие. Оно уже проложило тень через периферийные, и в основном связанные с бытовой жизнедеятельностью, участки его разума. Виталий Семёнович и раньше был слабо социализирован, но последние несколько лет ощущал, что и от своеобычной рассеянности и неспособности молоко в магазине купить, чтобы не опростоволоситься, попахивает уже чем-то иным. Да прямо скажем – развивающейся патологией. Поэтому Левин старательно структурирует мышление, подчиняя его своей второй плоти – математике. На этом поле он ещё не проиграл. Виталий Семёнович приседает у северного угла университета, как бы шнурок завязать. Это даётся ему с трудом. Склероз коленного мениска с прогрессирующим окостенением хрящевой ткани – ограничивает подвижность. Привалившись к стене, вынимает несколько кирпичей. В свои предыдущие экспедиционные вылазки он уже успел расслабить и без того ветхий участок здания и сделать достаточное углубление. Оглушённый болью в ноге, дрожащими пальцами дёргает молнию рюкзака и, с прикрытыми в страдальческом прищуре глазами, нащупывает смонтированный с запальным устройством «кекс».
…но ты не опускал рук… ультразвуковая установка!.. прямо за этой стеной ты её сконструировал… революция в лечении злокачественных опухолей… ты был замечен… был нарасхват… тебя звали со всего мира… теперь-то можно было уехать… оставалось только выбрать: куда… но ты же знаешь, кто сделал последний выбор?.. знаешь, конечно… когда тебя пригласили в США, посулив целое крыло научно-исследовательского института, кто задал самый главный вопрос: – А мне можно?.. да… ОНА… эта разжиревшая святая пастораль, которая вбивает крестными знамениями гвозди в крышку твоего гроба… ей было нельзя… поначалу точно… и она сделала всё, чтобы ты остался… вплоть до симуляции собственного рака… и ты лечил её фантомную опухоль, отправив за границу ученика… а там для работы необходим патент… и ты, конечно же, разрешил ему… ведь он был как сын…
Левин уже готов втиснуть взрывчатку в углубление в стене, но тут его окликают: – Виталий Семёнович, вам плохо?! Охрана кампуса. Они уже не раз замечали этого жалкого, с позором уволенного старика, когда он почти ежедневно бродил у стен университета и смущал своим видом студентов и преподавателей. Не он первый, не он последний. А вот Левин – поглощённый болью в колене, Бетховеном в наушниках и охватившим его адреналином – сослепу проворонил. Он стремительно краснеет. Слёзы досады и разочарования катятся по пергаменту щёк, оседая в бороде. Профессор не придумывает ничего лучше, как начать поедать свою «выпечку». Так он и сидит на корточках, с катящимися по лицу слезами, и по кусочку, едва перебарывая отвращение, откусывает. Охрана не напирает. Входят в положение. Подхватив под руки и помогая подняться, совсем не замечают торчащих из рюкзака проводов.
…вот она – вся твоя исключительность… где та жизнь, которая должна была быть большой и великой?.. совсем маленькая и жалкая… как и этот кекс… как же дожевать-то паскуду?..
А затем Левина растаптывает окончательно. Висящего на руках охранников, с размазанными по лицу слезами и тестом, его проносят мимо стайки перекуривающих студентов, среди которых он замечает: ЕЁ. Лиловое имя, способное смыть песок с языка, обнажив золото: ЛИ-ЛЯ. Она тоже его видит. Смущённо отводит глазки. Нарочито интересуется яростно-ржавыми кронами тополей. Одёргивает приятелей, которые потешаются над бывшим преподом. Но Левин знает, что она успела всё разглядеть. Он теперь так ей и запомнится. Именно таким. Навсегда! О, слабость и отчаяние…
Лиля была тем самым запальным устройством, которое сдетонировало Виталия Семёновича. С его тихушным пьянством последних лет ещё мирились. На граничащую с полным безразличием манеру преподавания тоже закрывали глаза. Научный авторитет и репутация позволили бы профессору и дальше потихоньку превращаться в столп плесени за барьером кафедры. Но вот романтическая заинтересованность студенткой? Позор! Ректорат, со своими пыльными, уже без надобности болтающимися первичными половыми признаками, не мог допустить выпадения из ряда. Их плохо скрываемая зависть к причудливому эротическому порыву коллеги и стала тем рычагом, который спихнул его на обочину.
…AB : AC = AC : BC… золотое сечение…
Левина пронесли мимо девушки, но он успел вновь доказать идеальные пропорции возлюбленной. Белокурые волосы Лили преломляли отсветы желтеющей листвы и казались сусальными. Виталий Семёнович позволил отволочь себя за пределы её взгляда, а там, остервенело зажевав нитроглицерин, подхватил порыв ветра и похромал к набережной.
Сколько любви может быть в жизни человека?.. Нужна ли она вообще?.. Левин не помнил: любил ли он когда-нибудь свою жену. Всегда был слишком одержим наукой, а супружница как-то естественно обнаружилась, наскреблась под боком, и Виталий Семёнович рассеяно позволил свершиться всем брачным церемониям. Что-то там связанное с химическими реакциями тела – вот чем была любовь для него. Все вокруг носились с этим примитивом как с писаной торбой, он же был занят другим. Тем, что связано с головой. Но к семидесяти годам на него навалился кризис, который люди проживают поэтапно, в течение всей жизни. А тут, с беспощадной ясностью, он вдруг всё про себя понял. Вышел, так сказать, за пределы процесса и со всей очевидностью узрел, что он – НИКТО. Что все его заслуги, достижения, изобретения – приписывают другим. А ещё, что он уже стар и навряд ли его вновь осенит. И что, собственно говоря, осталось?.. Презираемая преподавательская деятельность? Жена, которую разочаровал своим небрежением, не подарив жизни смысла в виде потомства? Больное изношенное тело, которым тоже пренебрегал, и оно теперь не способно родить ничего, кроме причудливых хитросплетений болячек? К его преклонному возрасту люди подходят с внушительным багажом жизненного опыта. Им, окружённым детьми и внуками – их прямым загробным продолжением, – есть что вспомнить. А единственное, чего добился доктор наук Левин, это возможного упоминания в сносках чьей-нибудь средненькой диссертации, да жалкого портретика в университетских хрониках. И в миг того озарения он почувствовал, как ниже пояса восстаёт нечто, что ещё способно возвратить жизни вкус. Сбитый с толку этим животным проявлением, Виталий Семёнович с перепуга запил, не переставая при этом заглядываться на студенток. И, как он обнаружил, провалившись всем своим естеством в этот новый, ранее неочевидный для него мир, посмотреть было на что. Всё вокруг колыхалось, умопомрачительно пахло и сводило с ума. Под определёнными дозами алкоголя Левин стал замечать за собой повадки бонвивана, способность к гусарским эскападам и страсть к дамскому угодничеству. Сказать, что со стороны это выглядело вульгарно, вычурно и просто смешно, значит ничего не сказать. Но окрылённый профессор не замечал насмешливых взглядов. Тем более что этому способствовала корыстная заинтересованность женской части потока, которые в сумасбродстве старика уловили возможность поправить академическую успеваемость. Левин был похож на пубертатного юношу, степень вожделения которого была в прямой пропорции с боязнью непосредственного контакта с этими самыми объектами вожделения. Ему было достаточно отворота блузки навалившейся на кафедру абитуриентки, у которой вдруг проявился неожиданный интерес к узкоспециальным областям физики. Или обнажившейся из-под подола бледной, в отчётливых голубеньких прожилках ляжки – этой самой обобщённой студентки (неловкость которой стала прямо-таки зашкаливать, так как она постоянно что-то роняла, и ей приходилось подолгу и размеренно нагибаться). Внутрикотловое давление росло по экспоненте, и закипевшая чувственная среда, во всех телесных объёмах Виталия Семёновича, должна была рано или поздно найти выход.
Левин спускался по проспекту к набережной. Чуял кожей уже по-осеннему студёные предвестия большой воды. Это было именно то, в чём он сейчас нуждался. Изнутри выжигали стыд и обречённая на неосуществление любовь. Он в очередной раз провалил свою многострадальную диверсию. Болтавшиеся в рюкзаке кустарные бомбы сейчас казались до нелепого смешными. Виталий Семёнович понимал, что они были всего лишь предлогом, поводом, чтобы каждый день отираться у стен университета, в попытке вновь увидеться с Лилей. Он сам был – старомодной бомбой, взрывное вещество которой отсырело, а бикфордов шнур с каждым днём ветшает. Чтобы вытравить отвратительный привкус теста, зашёл в магазин за коньяком. Спустился по склону парка культуры. Колесо обозрения медленно, с натугой, совершало обречённые обороты, на всю округу скрежеща ржавыми механизмами. Левину подумалось, что и свой пик восхождения он уже давно миновал. Причем, как-то незаметно для себя. Не успев даже насладиться открывавшимися видами. А ещё – что он будет вечно пребывать на радиальных параллелях с Лилей. И когда она вознесётся к вершине, то он падёт вплоть до последней точки близости с землёй. И самое обидное, что с той точки он более не сможет восхищённо наблюдать за возлюбленной, так как обзор там обычно ограничен… деревянная крышка мешается. Левин подошёл к краю набережной. До него долетали брызги разбивающихся о барьер волн. Вода была студёной, но не холоднее густой, медленно текущей по жилам крови. Нитроглицерин унял сердце, и сейчас было то самое, похожее на нормальное функционирование организма, на которое так прекрасно ложится коньяк. И профессор пил. И отщипывал от остатков «выпечки», окормляя чаек. Отгонял тростью особенно зарвавшихся. Они вопили, оглашенные. Под их стенания Виталий Семёнович вспоминал свет.
Лиля была первокурсницей, но в ней отсутствовали типичные, хорошо знакомые ему, неуклюжие приметы переходного – от школьницы к студентке – возраста. Свежесть юности густо мешалась со сквозившей во взгляде и повадках какой-то натуральной зрелостью и достоинством. Левин оценил это. За идеальными волнительными пропорциями молодого тела рассмотрел что-то ещё. То, что должно было с ним случиться ещё в молодости, но так и не воплотилось из-за собственной слепоты и подтасовки жизни. И самое странное, что между ними с первого взгляда установилась взаимная приязнь.
До слёз ослеплённый северным ветром, под прекрасным осенним солнцем, которое уже не тепло и только лишь свет, Левин дотащился до расположенной прямо за велосипедным дорожками «шашлычки». Заведение пустовало. Сезон подходил к концу. Немногие оставшиеся под вылинявшим навесом столы покрывал многодневный слой пыли. Виталий Семёнович докричался до черноволосых хозяев, что лениво и уже скорее для своих нужд поддерживали угли в мангале. Испросил приборы, заказал мяса. Обычно стеснительный, сейчас он был изрядно раздавлен предыдущим происшествием и слишком погружён в воспоминания, чтобы задумываться о несвойственной ему манере поведения и некоторой порывистой резковатости в тоне и движениях. В кафе звучало что-то слезливо-блатное. Левин высказал владельцам пожелания о смене репертуара, что тоже, прямо скажем, не расположило их к нему. Добавил громкости в плеере. Бетховена сменил Бах, и, под его до-мажор прелюдию Виталий Семёнович присел за столик, обратившись вытравленными ветром глазами к озеру.
Мир превратился в угол. Всё стало углами, перенимая свойства главного угла – угла схождения ног Лили под доской парты. С определённого момента, в факультативе Левина, стало пребывать женских запахов. Ароматы лака для ногтей, дешёвых дезодорантов, краски для волос, косметики, потовых желёз, средств гигиены… Сгущённая, обострённо воспринимаемая профессором среда заполняла всё пространство, и он, трепеща крылами носа, передвигался по аудитории, почти не соприкасаясь с полом. Совершал для себя много открытий, не относящихся ни к физике, ни к математике. Виталий Семёнович обнаружил, что в общем гомоне запахов некоторые он выделяет особо. Причём, не всегда со знаком плюс. Свои глаза он стал почитать за голодных похотливых дурней, что падки на геометрию женщины. Их можно легко обмануть. А вот обонятельные рецепторы стали для него первейшими индикаторами, сигнальной системой. Спотыкаясь о чью-то умопомрачительную выпуклость, он обычно подлетал ближе, прикрывал вежды и, вобрав в себя конгломерат ароматов, исходящих от владелицы выпуклостей, либо разочарованно морщился, либо склонялся ближе, роняя тень от седых волос.
Мясо хлопнулось об стол, подпрыгнув на пластиковой тарелке, брызжа во все стороны кетчупом. Левина бесцеремонно выдернули из memorativa virtus. Он ошарашенно проводил взглядом толстого кавказца, чьи объёмные ягодицы в красноштанных адидасах величаво вздымались и опадали, напоминая разрезанную по оси планету Марс. Виталий Семёнович посмотрел на дымящееся пережаренное мясо. Ему показалось, что весь мир сейчас является свидетелем его воспоминаний, его слабости, его неуместной старческой эротической истомы. И он противен этому миру. Его убьют. Непременно. Забьют его же тростью, обагрив белую кость набалдашника сукровицей мозга. И ему жаждалось этой заслуженной страстной казни, потому что она была бы равносильным ответом на страсть, распирающую изнутри. В незримых пределах той страсти, как в жерле вулкана, профессор плавал на подгорающей утлой лодчонке, задрав подбородок и подставив тощую кадыкастую шею случайной петле. Вокруг стола, присоединившись к назойливым чайкам, стала кружить бомжиха. В её мутных глазах Левин, за заискиванием попрошайки, различил ещё и внимательный изучающий взгляд хищника. Старик, наверное, напоминал ей сизаря с изувеченными электричеством лапами, которому только и остаётся, что без устали летать, так как на земле он лёгкая добыча. От бродяжки так просто не отмахнуться. Приглашающим жестом двинул тарелку. Бомжиха в голос рассмеялась и, намекая на происхождение традиционного кавказского блюда, кивнула на увивающуюся за ней свору псов. Левин швырнул один из кусков в воздух. Чайка подхватила его под лай собак и вопли собственной оголтелой стаи. Профессор налил во второй стакан коньяка. Бездомная, с остекленевшими глазами, бросилась к выпивке. Хотела было пристроиться рядом, но он отрицательно помотал головой. Бомжиха присела за соседний столик и впилась чёрно-жёлтым ртом в белый пластик стакана. Левина охолонуло тяжёлыми запахами телесной запущенности, донёсшимися вместе с очередным порывом ветра. Тогда он, с ещё большим упорством, стал вспоминать.
От Лили исходил аромат петрикора. Особого запаха свежести, который устанавливается после дождя. Кружащее голову благоухание юности. А ещё в глазах студентки Виталий Семёнович сразу уловил какое-то – на грани сочувствия – понимание. Странные глаза для молоденькой девушки. Что она могла знать, казалось? Про жизнь. Про мир. Про него. Но он споткнулся о взгляд этих карих глаз, и они возбудили в нём не только вожделение, но и исключительное интеллектуальное любопытство. В её глазах можно было подолгу задерживаться. Ему, по-юношески стеснительному – задерживаться. Проводить исследование terra incognita. А Лиля благотворительно позволяла это, словно застигнутая в перелеске на прерванном шаге и потусторонне оглянувшаяся косуля.
Левин содрогнулся от пронзительной боли в колене. И вновь тяжёлый запах бездомной, который оказался необъяснимо близко. Он глянул вниз, отшатнувшись. Пониже подбородка к нему прижималась бродяга, и они танцевали под какой-то заунывный вальс из динамиков кафе. Виталий Семёнович пропустил начало безумства. Только боль, прорвавшаяся через глухое опьянение, возвратила его к реальности. Хозяева заведения посмеивались, направив на них камеры телефонов. Он улыбнулся в ответ. Как бы извинительно. Но затем присмотрелся к обнимающей его бездомной. За паршой и патологичной припухлостью деградирующих мышц лица все ещё можно было разглядеть в общем-то нестарую женщину. За тридцать, под сорок. Проведя умозрительную работу над её обликом и избавившись, как от шелухи, от признаков образа жизни, получалось даже доскрестись до изначальной привлекательности, которая когда-то была ей присуща. Профессор не оттолкнул бродяжку и ещё раз улыбнулся шашлычникам. Только теперь с презрением.
Однажды Лиля взяла его руку и положила к себе на колено. Профессор объяснял ей что-то касающееся основ прикладной математики, и толком не понял, как это произошло. Он было запнулся, но тут же по возможности вернул себе самообладание. Продолжил сбивчиво говорить, понимая, что пока не замолкает, рука будет оставаться там... на колене Лили. Джинсовая ткань была плотной и тёплой. Левин ощущал каждую ворсинку под ладонью и как строчный шов на внутренней стороне бедра устремляется к вершине треугольника… к самому лону. Остальным студентам было невдомёк, что происходит под столешницей. Лишь странно долгая задержка профессора у сокурсницы могла вызвать подозрения. А Виталий Семёнович одурманенно вдыхал петрикор, вызывавший в нём какое-то метафизическое головокружение, поворачивающий десятилетия жизни вспять, возвращавший молодость и утерянное время. Затем Лиля улыбнулась профессору и озорно смахнула руку. О, он запомнил эту улыбку. Так слепит солнце, отразившись от зеркальной поверхности. Потом ты ещё долго видишь яркие блики, куда бы ни бросил взгляда. Эти солнечные пятна навсегда отожглись на его сетчатке.
Новая вспышка боли. Это Левину отвесили пинок. Тот самый кавказский марсианин. В кафе забрели приличные с виду люди, туристы, должно быть, и забавный старик с бомжихой, вальсирующие на осеннем ветру – более неуместны. Бездомная возмущённо напустилась на кавказца, не преминув при этом ловко нырнуть за спину Левина. Он же, оглянувшись на трость – до которой не дотянуться, – оставил мысли о благородной схватке с варваром. С обольстительной улыбкой, каковая, наверно, в один из последних раз озарила и облагородила её испитое лицо, бродяжка послала Виталию Семёновичу воздушный поцелуй и погнала прочь собачий караван. Левин опрокинул коньяка. Ощупал карманы, обнаружив, что пьянчужка стянула бумажную мелочёвку. Оставалось надеяться, что ей пригодится. Пристроил напротив себя рюкзак, раскрыл молнию и с осторожностью запустил пальцы внутрь.
Последнее бескорыстие, вот что Виталий Семёнович узрел в Лиле. За её приязнью к нему не проглядывалось мелочности и стяжательства. Обманутый по жизни, обманутый жизнью – он был на пороге последнего доказательств теоремы суммы углов. И все эти соблазнительные преломления – принадлежали прекрасной девушке. Конечно, в тот весенний роковой вечер надо было озаботиться закрытостью дверей аудитории. Или вообще перелететь на другую планету со своим последним доказательством. Но ладонь задержалась дольше обычного и не была отвергнута. А стёкла окон тряслись от первой грозы, и казалось, что сама природа утверждает петрикор, распространяя его безусловное самодержавное царство. Виталий Семёнович поддался моменту, а точнее – полностью в нём растворился. И когда над его головой, склонённой для поцелуя с Лилей, послышались улюлюканья и смех, Левин вдребезги разбился об нацеленные зрачки телефонов, о фотовспышки. А в последнем взгляде, обращённом к нему возлюбленной, он усмотрел – раскаянье. Стало ясно, что Лиля с самого начала знала много больше, и они играли в разные игры. Но он всё ей простил и был благодарен. Теперь ему было что забрать с собой.
Низкое небо подминало водный горизонт наползающими ливневыми тучами. Солнце должно было скрыться с минуты на минуту. От Левина откатились воспоминания, и он продрог всем своим худобным, с загустевшей кровью, телом. Изматывающую пытку памятью профессор заставлял проходить себя каждый день. Боялся что-то забыть. Утерять любую мелкую деталь. Каждый раз сверялся с внутренней картой памяти, выжженной на тончайшей подскорлуповой плёнке души. Пока всё было в порядке. Шакал старческого слабоумия рыскал на подступах, но ещё не вонзил алчные клыки и не отъел ни куска от его любви. Проходя мимо урны, Левин незаметно скинул туда что-то и помахал средним пальцем усмехающимся шашлычникам. Минуя жадно поедающих мясо туристов, поинтересовался мнением насчёт «Собачьего сердца» Булгакова, при этом едва успев увернуться от красноштанного кавказца с заготовленным пенделем. Без оглядки похромал прочь. Не оглянулся и когда раздался взрыв: разворотивший урну, разметавший горящий мусор и погрузивший заведение в клубы дыма и пыли. Хлынул дождь, обтесавший долговязую фигуру Левина. Он чувствовал окрепшую тяжесть пониже пояса, и ликования и возбуждения профессора хватило бы на то, чтобы страстно изнасиловать всё это огромное озеро за спиной и каждую рыбину, каждый камень в нём – по отдельности.
Побледневший до прозрачного голубого свечения, ещё в такси он начал со всевозрастающей тяжестью закашливаться. Ехал, приложившись лбом к стеклу, провожая взглядом мутные дождевые потоки в желобах ливнёвки. Думать было не о чём. Да и не хотелось. Шакал рыскал. Вторая половина дня – теперь так. Установившийся распорядок. Утренняя похмельная ажитация. Далее – «операция подрыв». Следом – воспоминания. А потом… потом – ничего. И тело вновь напоминало о себе, входя в стадию послеполуденного пробуждения застарелых болячек. В подъезде столкнулся с соседом Петровичем. Тот курил у почтовых ящиков, но при виде его радостно затушил окурок. – Здоров, Семёныч! Тебя-то я как раз и стерегу. Знаю, что всегда почту проверяешь. – Здравствуй, сосед. – Ленок опять с мигренью слегла, а дом полон внуков. Без твоего чуда техники – никак. Полечишь? – Конечно. Левин весьма обрадован. Возвращаться домой, к перманентной панихиде и день ото дня всё более возносящейся жене – совсем не тянет. – А я тебя полечу, – с говорящей улыбкой подмигивает Петрович. – Агась, – интонационно подыгрывает Виталий Семёнович. – Забегу только домой за аппаратом. – Забеги, забеги, – ухмыляется Петрович, скосив взгляд на его трость. Левин как можно тише проворачивает ключ и украдкой проскальзывает в прихожую. В нос шибает густым духом перебродившего солнца вперемешку с восковым чадом свечей. «Ну, если и в раю так…» – думает он, пробираясь в кабинет. Проходя мимо комнаты супруги, слышит громкий надсадный храп, перемежающийся всеми именами господними и ангельскими. Звучит это странно, точно беса изгоняют из осипшего забулдыги. Левин удручённо вздыхает. Войдя в кабинет, на секунду застывает на пороге. Жена успела прибраться. Все дипломы, сертификаты и прочее – на своих местах, развешены. Со всего обтёрта пыль. Виталий Семёнович знал, что пока его не погнали из университета, он был для Тамары Николавны единственным поводом для гордости, единственным оправданием того, что сама она так и не состоялась в качестве хранительницы очага, матери. Был последним и весомым аргументом в пересудах с более удачливыми и приземлёнными товарками. Чуть что: «Да-а… Левин-то мой – мировая величина-а…». И соглашались с ней, и глубокомысленно замолкали, но скорее не с восхищением, а с незаметным для неё сочувствием. А затем мировая величина Левин, с мировым же размахом – оскандалился, и в глазах Тамары Николавны не просто пал, Левин для неё тогда – умер. Вот и наведённый порядок, который он сейчас наблюдал, был ритуальным обрядом по сохранению памяти по воображаемому и безвременно почившему благородному супругу. Своеобразным спиритизмом. Так она общалась с его духом. Профессор открыл форточку и жадно вдохнул холодного влажного воздуха. Задавившись кашлем, прикрыл рот ладонью, чтобы не дай бог не разбудить жену. Прихватил «чудо техники» и смылся.
Он любил бывать у Петровича, вместе с тем тяготясь этими побывками. С соседом они были близки по возрасту, только очень по-разному встретили старость. Петрович всю жизнь оттрубил слесарем на ТЭЦ, и его с почётом проводили на пенсию в качестве старшего мастера. Жена его, Ленок – отменная повариха – тоже до пенсии трудилась на предприятии, в столовой. Там и познакомились. Воспитали троих своих и одного приёмного ребенка. Сохранили семью, пронеся её через все сотрясавшие страну бедствия. И теперь жили полной чашей: нянча внуков, ведя обширное дачное хозяйство, и вообще, являя собой пример крепеньких таких пенсионеров, на которых только и держалось всё непреходящее. Так вот, Левин любил бывать у Петровича, вместе с тем тяготясь этими побывками. Входя в соседскую квартиру, он с порога погружался в чужой ему, непознанный мир – семейных ценностей, уюта, тепла. Даже запах у этого мира был незнакомый. Пахло домашней снедью, какими-то соленьями, древесной стружкой с балкона, а ещё почти невесомым детским ароматом их внуков. И это пронимало Виталия Семёновича. Он одновременно тянулся в эту квартиру, словно кривобоко вылетевший из кромешной чащобы чахоточный мотылёк, но и досадовал от полноты осознания, что у него-то – такого не будет никогда, и что жизнь прожита как-то неправильно. Левин закрепил присоски с проводами на лбу и висках Елены. Она лежала с полуприкрытыми глазами, полными страдания от мигрени и сожаления по поводу своей недееспособности и невозможности в полной мере заняться домашними делами. – На вас одна надежда, Виталий Семёнович… извините за беспокойство. – Да какое там, – отмахнулся профессор, настраивая прибор. – Таблетки уже не берут эту холеру, только ваш аппарат и спасает. – Понимаю. Закройте глаза и отдохните. – Да, да… полежу немножко. А вы… Петя, накорми Виталия Семёновича!.. ой-ой-ой, и кричать-то больно… И за Сеней с Любочкой присмотри!.. ой-й... Левин оставил страдалицу и, подхваченный под руки детишками, был сопровождён ими на кухню. Мальчик и девочка – четырёхлетки-двойняшки. Левина они называли Айболитом. Он в них замечал странную к себе приязнь, которая озадачивала и немножко пугала. Петрович усадил Виталия Семёновича за стол, на котором парили две тарелки борща, а под расшитым полотенцем отпотевала бутыль домашнего самогона. После того как опрокинули по первой стопке, Левина будто высветлило и приподняло. Самогон был крепковат и всегда оказывал на него подобное действие. На мгновение всё стало ясным и выпуклым. Любочка сидела напротив на руках у Петровича, а на его коленях пристроился Сенечка. Детки были солнечными зайчиками, с невесомым пухом выгоревших за лето волос и молочно-чистой кожей в россыпи веснушек. Они казались профессору чудесными пришельцами, имевшими к человеческому роду весьма опосредованное отношение. Он не мог себе представить, что сам когда-то был – вот таким. Левин склонился к голове мальчика и, насколько хватало дыхания, вдохнул аромат. Это был запах кварца, как бывает в раскалённый полуденный летний час, а ещё пыльцы и мёда, и дух парного чернозёма на полотне лопаты, и прохлады сквозняка, хлестнувшего по лицу. Исказившись лицом, профессор изрядно позабавил детишек неожиданной сентиментальной гримасой. С трудом заперев подступившие к глазам слёзы, скоренько заел их борщом. – Как жисть, Семёныч? – спроваживая внуков конфетами, спросил сосед. – Жизнь?.. – задумался Левин, обозревая окружавшее его благополучие. – Какая у меня жизнь, Петрович? Вот у тебя… – Брось, Левин. Ты человечище! Вон, как бы Ленок без твоих панацей? Знаю, что сам недавно из больнички? – Сердце прихватило… ерунда. – А вот это ты зря. В нашем возрасте ерунды не бывает… Потерянный ты какой-то, словно рукой на себя махнул. – Было бы на что, – и вправду махнул рукой профессор и чокнулся с соседом. – Горе у тебя от твоего умищ-ща. Посмеёшься наверно, но скажу, что иногда лучше попроще быть. – Верно и не смешно. Но что делать, если никогда не умел попроще, а учиться уже поздно? – Попроще-то оно легче. Вона хоть на внучат моих глянь. У них всё просто и по-настоящему. И радость, и грусть – лёгонькие такие, светлые. Как и должно. И глаза чистые. А у тебя глаза камнями набиты… не нравятся мне твои глаза. Левин рассматривал Петровича, потирая длинными интеллигентскими пальцами скатерть, на которой жарко рдели перезревшие подсолнухи. Он всякий раз скоблил эту скатерть, словно в неосознанной попытке тем самым попрать пастораль. Возраст не отметился в облике соседа унизительными морщинами и прочими признаками старости. Румянощёкое крепкое лицо с простыми без затей чертами. Возраст можно было заметить разве что в глазах, через которые пробивалась добротная умудрённость и просолённое знание жизни. Сравниваясь с Петровичем, Левин сам себе казался каким-то призрачным, чьё существование не вполне очевидно и требует постоянных доказательств. Как наслоения меловых оттисков на классной доске. Вроде и не сотрёшь уже мокрой тряпкой, но смысл их давно не ясен. – Скажи, Петрович… тебе всегда хотелось жить? – спросил профессор, промокнув палец в стопке. – Всегда, Семёныч. И чем дальше, тем шибче. – Из-за детей, внуков?.. – Это само собой. Но ещё… как и ты – я человек советский и, приготовься, сейчас тебя научным словом нахреначу – материалист. Я верю в то, что своими руками. В то, что на земле. И в то, что оставишь этим самым детям и внукам. И чем старше становлюсь, тем больше хочется оставить. Знаю, что религия сейчас в моде, но ведь она… помнишь, как нас учили?.. опиум для народа. Одурманенный народ пошатывается, пока его обдирают как липку, лишают памяти, отрывают от земли. И всё это под вредные обещания жизни – вечной, сладкой. А я хочу оставить своим детям и их детям – эту самую землю, мой труд на ней, которой расскажет обо мне поболее, чем всё остальное. – Да… оставить. Я тоже думал, что оставлю что-то. – Это ты брось. Я по сравнению с тобой мышь полевая, а ты в небе, ты для всех. – Только вот подо мной ничего не разглядеть… нет там ничего. Петрович подлил самогона и с несколько досадливой, но сочувствующей улыбкой поднял стопку. – Давай выпьем за наш возраст! Мы с тобой, Левин, доперделись уже до того времени, когда бесполезно жалеть о прошлом, потому что будущего кот наплакал. А это – освобождает. В кухню забежали двойняшки и звонким стрекотом наперебой позвали Айболита. Левин, пошатываясь, поднялся и наигранным слепцом выставил трость. Детишки, озорно ухватившись, потащили его за собой. Елена уже не лежала, а с вполне себе прямой спиной сидела на кровати. Лицо её прояснилось, избавившись от искажающих черты примет мигрени. – Ой, Виталий Семёнович, благодарствую! Будто заново родилась! – Помогло? – спросил профессор, отсоединяя провода. – Всегда помогает. Без вас так бы и валялась колодой, пока дед внуков портит. – Чё это я порчу?! – от дверей возмутился Петрович. – Портишь, портишь! Вон у них все ладошки в занозах от твоих деревяшек. – Пускай учатся! Выстрогают себе игрушку, так поймут, что это такое, когда своими руками. Такого в магазине не купишь. – Самогонку твою тоже в магазине не купишь. Пока я в лежку, расдегустировался, как погляжу?! – А я чего... я соседа угостил. – Ага, тебе лишь бы угостить кого! Извините нас, Виталий Семёныч. Оставайтесь на ужин, я сейчас рыбник заправлю. Левин убрал аппарат в обычный целлофановый пакет и умиротворённо улыбнулся, заслушавшись их беззлобной перебранкой. – Нет, спасибо большое. Домой пойду, а не то набродился сегодня. – Остались бы. Может, и детишек чему поумнее дедовой строганины поучили. – Пойду я, Леночка. Моя там заспалась, будить пора. – Ну, смотрите… Тамаре Николавне большой привет. – Обязательно. В прихожей дети долго не отпускали Левина, облепивши ноги, а соседи, пробуя разные подходы, в очередной раз пытались втиснуть денежную благодарность. Не без труда отбившись, вышел за порог. Пора было возвращаться в родную мглистую юдоль.
Вечерние сумерки погружали квартиру в обиталище разновеликих теней. С каждым днём свет убывал. Зима на подходах, и Левин предчувствовал её как окончательную черту, которая будет подведена под его начавшейся с весенней капелью любовью. Зашёл в комнату жены. Она... [👉 продолжение читайте в номере журнала...]
Чтобы прочитать в полном объёме все тексты, опубликованные в журнале «Новая Литература» в мае 2021 года, оформите подписку или купите номер:

|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Металлические настенные вешалки. . https://elitsmesi.ru бмп плитка плиты безбалластного мостового полотна бмп. |

