Михаил Ковсан
ПовестьЛирическая хроника мора
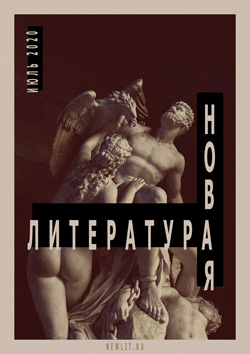 На чтение потребуется 1 час | Цитата | Скачать в полном объёме: doc, fb2, rtf, txt, pdf

Наконец позволили. Выпустили. Разрешили. В намордниках. Недалеко. Строго нормированный глоточек свободы. Словно кусок хлеба чёрный, чёрствый, смертельно блокадный. Хотя… Такое сравнение… Пусть будет. Оставим.
Социум в ковчеге, из коридоров и комнат рыб изгоняя, слепился наспех, но точно. Оглядываясь по сторонам, держась за руки и на бегу беспрестанно целуясь, совсем юные побежали; за ними, подпрыгивая, словно в седле, двинулись высокий и узкий с низеньким колобковым; словно шпагой, размахивая рукой, нервной быстрой походкой, оставляя за собой прекрасную девушку, за чьей-то тенью молодой человек устремился; несмотря на кричащую молодость, человек тащился едва ли не под руку с кургузым таким пиджачком с чертами лица очень мелкими и живыми и станом ужасно вертлявым; одним словом, все творения парами.
За окнами темно. Прекрасно. Значит, там всё, что угодно душе. Золотистый горячий песок, или парок над зелёной долиной, или снежности бесконечность, или лазоревость уютных бухт – всё горесть с души совлекая, всё приманивая удачу.
Сперва на них напал дикий жор, который с недержанием слов, хотя одно другому противоречило, естественно сочетался. По родной пище изголодались? По языку? Затем у всех разом пропал аппетит, а словесная похоть, хотя не исчезла, но притупилась. И вскоре всех единая страшная мысль посетила: они теперь секта, единая плоть, одно стадо духовное. Надолго? Выйдут – закончится? И выйдут ли вообще?
МЫ? СМЕРТНИКИ БЕССМЕРТНЫЕ. АМИНЬ
Я знаю: страх настигнет беглеца, Я ведаю: тоске настичь изгоя, И конь заржёт, застигнутый грозою, Замучившись от пыли и от зноя, От плети неуёмной наглеца, Стирающего пот и злость с лица.
Не знаю я: где завершит он бег, Не ведаю: куда и почему он Стремится, и какой тоскою мучим, От бытия оседлого отучен, Где сыщет он случайный свой ночлег, Когда его настигнут снег и смех.
Такой сюжет. Баллада. Блудный сын. С поправкою: ещё не воротился, Ещё изгой: пока не обратился, Ещё в бегах: конец не сочинился. И вряд ли будет прост он, как алтын, Однако, блудных много, он – один.
Их, блудных, вышибают – клином клин. Да будет так. Так будет. Не иначе. К бессмертию безумие в придачу, Как к Буцефалу, Росинанту – клячу. Везде такое, даже в царстве Минь. Мы? Смертники бессмертные. Аминь.
СКВОЗЬ ПРИЗРАЧНЫЕ СУЩНОСТИ СКВОЗНЫЕ
Сквозь призрачные сущности сквозные, Сквозь узкие прозрачные… Зрачки Пространство прожигают. Маячки Знаки надежды подают. Крючки – Чтоб сущности висели привозные, Восточные иль вовсе не земные.
А здесь привычно летняя жара, Озёра высохли, и сущности засохли, Их познававшие от тишины оглохли, Иной и вовсе повернул оглобли, Решив: давно на родину пора, Ведь и monsieur прогнали со двора.
Куда ж ему? В какую из петель? Дверные петли так скрипят ужасно, Хоть ублажай их маслом – всё напрасно, Рывком дверь ночью открывать опасно, Поэтому уж лучше без затей: Сущность – и всё, без всяческих идей.
А потому – излишнее всё прочь! Кто Богу досаждал, того на дно, и Из брюха рыбьего пускай несчастный молит: Не мною истолочено, не мною, Я лишь хотел матросам тем помочь! На что мне ступа? Нечего толочь!
А мельницы ручные мелют день И даже ночь порой так лунно мелют, Что мелочью свет рассыпают медно, Стражи вдоль стен, дрожа, шуршат, умело Минует их ночами робко тень, Дневная не тревожит дребедень.
Ковчег, слоящийся человечьими пластами неожиданно, странно, причудливо, развесёло кишмя кишел плакатами, указателями, запрещающими, предписывающими и угрожающими. Все они обветшали, замызгались, поизносились. Развесёлый ковчег угасал, пустел, распадался. Одни покинули его, другие со дня на день ожидали разрешения, томясь от нетерпения и страха никогда не вернуться в развесёлую жизнь, которой больше не будет. Развесёлый их поманил, соблазнил жизнью иной, надеждами совратил, поматросил и бросил. Мираж явился бог знает откуда, пофатаморганил неделю-другую и в пустоте растворился. А было: шампанский восторг, райское неведенье – миг прекрасный и вечный, миг души, жаждущей утолённости. И вдруг декорации переменились, вместо цветного и радужного явилось чёрно-белое, сероватое. А вместе с этим печальные мысли о будущем, которое вот-вот, день-два и наступит, надо будет что-то делать, решать, всё самой, ни на кого перевалить невозможно. И Кроткого крокодила, который последние полгода за неё всё решал, нет и больше не будет. И никто, где он, не знает: может, утонул, может, зверь злой сожрал. Никто не ведает. И не узнает, даже она, которой теперь всю жизнь мучиться, что одного, без себя отпустила. Попробуй не отпусти. На то он и Крокодил, чтобы все его слушали, а не он – хоть кого-то. Мысли о завтрашнем дне без Кроткого её корчили и ломали. Хотелось орать и стену ломать, но ни до кого всё равно не докричишься, стену ничем не проломишь. Оставалось задыхаться, вспоминая те дни, когда мыслей не было, будущее прочно исчезло, растворилось в дыму ли, в тумане, что всё равно, совсем безразлично. Но так было раньше. Теперь Кроткий где-то маячил, но не больно, огонёк далёкий в тумане. То ли ты к нему приближаешься, то ли он удаляется от тебя, если нет будущего, значит, кто к кому, кто куда, это неважно. Пусть себе сколько угодно маячит, а исчезнет – и вовсе прекрасно. Она всё может сама. Убежала – вернулась, вернулась – здесь закрутила: гнилой базар по углам прекратился, от её призыва все ожили, фестиваль траха торжественно учредили. Основные инстинкты бродили по коридорам, выглядывали на балконы, собирались стайками, серебристыми рыбками, блестя чешуёй, разбегались по комнатам, не кичась знанием и богатством увиденного, друг с другом делились словами, телами, облачками духа и дымом: сладковатым травки и табака горьковатым. Через пару дней после отплытия дым стал проникать в ковчег беспрепятственно: табачный с центрального входа, травки – бог знает с какого, стоил вдвое-втрое обычного: обстоятельства изменились, условия усложнились – цена веселия увеличилась. Конечно, оно всегда было в цене, в сегодняшнем мире его не хватает, но теперь, особенно после долгого ожидания самолёта на другом конце света без денег, без крыши, дороже тем более. Вот и придумалось: фестиваль. Какой? Траха! Какой же ещё?! Назначено в полнолуние, в полночь в лобби, на пятнадцатом этаже, для жильцов он последний, на шестнадцатом – службы. В лобби стены не бесталанно расписаны. Левая – море бурное, корабль: бесприютный Летучий голландец; правая – усмиренное, тихий берег, омывает ноги состарившийся Одиссей. В окне – высотные краны Вавилонскую башню возводят. Но живопись плохо видна: чадно и дымно. А башня исчезла, ночной тьмой поглощённая. В начале первого яблоко долго искало, куда бы упасть. Ковчег накренился, так боком и двигался, пока полумёртвые утром не расползлись. Оглушённые, одуревшие, в заточении одичавшие, обитатели ковчега, сбившись в единую массу, потоптались, подёргались, обменявшись прикосновениями и улыбками, потихоньку сложились в пары, треугольники, в самые продвинуто смелые, замысловатые фигуры изящной речи и изысканно начертательной геометрии. Запустили музыку. Она была чирикающей, чавкающей, лающей, кривохрипящей, орущей и ещё всяко разно какой, одним словом, музыкой завтрашней, читай: современной. Ведь все творцы, большие и малые, свое время обогнать норовят. Потому получается: чем завтрашней, тем современней. Наступило время не собирать, а разбрасывать, не камни – одежду, которой по углам кучковаться разбросанно, разноцветно. И тогда от ора воздух охренительно задрожал, от топота палуба неудержимо начала сотрясаться, от содроганий на древней древесине выступила смола! Не рухнул бы в бездну ковчег, в тартарары бы не провалился!
– Что такое тартарары? – Нежно, щекотно, на ушко. – Ад. Мёртвых царство подземное… – Где души грешников муки вечные порциями немеряными вкушают. – Всё и сам знаешь. Откуда? – Гуглю. А в перерывах вкушаю тартар. – Это как? – А вот так. Рубить мясо только ножом, никаких мясорубок, лучше взять два тяжёлых острых ножа, ими двумя руками мелко х…ячить. – Что – мелко? – Рубить. Ну, и каперсы, лук, короче, не важно.
Кто это шепчет? На ухо – кому? Хрен его знает! Важно лишь то, что дошепчутся.
Ковчег сотрясался: от волн и ветра извне, от неудержимого буйства, бьющего изнутри. Музыка звучала сама по себе, обитателей ковчега не слишком волнуя. У каждой фигуры своя мелодия возникала, и этой музыкой услышавшие её дорожили. Она смотрела с крошечного возвышения типа эстрады на геометрию безумно, безгрешно безусловного счастья, которое возникает всегда лишь на миг, хорошо, если раз в жизни, у большинства – никогда, смотрела, радуясь, что она это придумала. Кроткий крокодил наверняка бросил бы: «Ничего», и исчез, в неизвестности растворившись, как всегда с ним бывало. Народ плясал самозабвенно, дёргаясь, извиваясь, выманивая визави из одежды. Они, по свету поскитавшись, кто вволю, кто слегка навандалившись, плясали, корчились в танце, ломая движения и наспех, неумело их сочиняя, дрыгались, вводя себя в исступление, наступая на пятки, да так, что едва до мордобоя не доходило, они кусали воздух, рвали его, словно мясо на пикнике под туей или же пальмой, а может, под баобабом, одиноким, пустынным. Двигались кривовато: в детстве их на балет не водили, в другие кружки отдавали, они их меняли, выбирая новых друзей, новые игры, а потом и места, которые будут помнить всю жизнь, никогда туда не возвращаясь. Они были ещё свободны, ещё на миг краткий судьбы вольны выбирать: становиться журналистами или ворами, политиками или в мелкие бизнесмены податься. Они дёргали свою свободу за последнюю ниточку в минуту для мира не слишком счастливую. Она стояла, смотрела на безобидное, несмотря на вспыльчивость и готовность полаяться, а то и при случае помахаться, смотрела на чудачьё-мудачьё, которое, устав и намокнув, передохнёт и будет вновь намокать, шпиля друг друга. Она смотрела на разноцветье, которое вместе с одеждами исчезало, и думала, что цвет – размывание формы, сюжета нескончаемо несуразное разнообразие, а чёрно-белость – геометрия, исключительность формы, точёно точная сюжетная завершённость. С детства она рисовала, бросала, в мусорный бак отправляя краски, бумагу, холст, карандаши, а потом возвращалась, снова всё накупая. Ни с того ни с сего мелькнуло: чёрно-белость, графика, надо взять уроки рисунка, по крайней мере, попробовать. Глядела на веселие, которое сочинила, и думала о том, что и здесь, даже здесь места ей не найти. В сложившиеся фигуры проникать уже поздно, создавать новую не с кем. Кто хотел – почти все ковчежные обитатели – были здесь, новые не предвиделись. Конечно, заниматься геометрией, даже самой изысканно многоугольной, было гораздо удобнее в номерах, но там бы это не было фестивалем, ради которого собрались. Некоторые, особенно самые юные, поначалу дичились, но, привыкнув и осмелев, даже стремясь выделиться, привлекали внимание криками, визгами, что, впрочем, тонуло в общем шуме и гаме. Пролетавшие птицы, заглядывая в окна, на миг, поражённые, застывали, увидев многогрудое, многофаллосное чудовище, которое прежде им не встречалось. Всё слиплось, сцепилось, сплелось. Где что, где чьё, не понять. Откуда чудовище? Как здесь очутилось? Каким ветром его занесло? Обессилев, расцеплялись, валились, вскакивали, затравленно зыркали, отыскав, слепившись, вновь продолжали, пока опять не падали и снова вставали. Бесновались, предчувствуя последний свой раз. Дальше учиться, жениться, заводить детей, разводиться. Что после, никто из них себе представить не мог. А тем временем за окнами ковчега уханьствовал мор.
Извне видом прост ковчег, не изящен, угловат, грубо локтями измерен. Иной подумает: для отвода глаз, тайное скрыть, для разума не безопасное. Подумает – будет прав, ведь внутри… Прямые внешние линии – дерзкий обман, нелепое наваждение, чтоб о внутренних лабиринтах, путях-перепутьях, об узорочье движения мысли не догадались. Локти – извне, для рубанка, для примитивного взгляда, изнутри – мера иная, ни глазу, ни чувству, ни разуму не доступная. Световой год – мера понятная? Так и здесь: скорость мысли мгновенная. С этой скоростью не летит, не мчится, не распространяется – нет глагола, стремительность эту вместившего. Словно время, эфирно струится мысль обитателей по комнатам и коридорам, палубам и отсекам, времена, словно пылесосом, вбирая, эпохи в пространстве скукоженном распространяя. Хрупкие, лёгкие, обнаженные тени мыслей дрожаще в страшной тревоге к внутреним стенам, перегородкам ковчежным лепятся, таятся в углах, забиваются в щели – от сквозняков уцелеть, в туманах не раствориться, на ветру солнечно не распылиться. Почему в источниках ковчег изнутри не описан? А что, все тайны любому, букв сложенье познавшему, должны быть доступны?
Ковчег весело плыл. Не оставляя следов, плыл в пустом пространстве излишних слов и мечтаний ненужных. Плыл, прозрачных рыб за кормой оставляя, не заботясь о том, что те в существительность обратятся, в сеть попадутся, что эту полезно сытную плоть препарируют, заморозят, продадут, сварят, съедят. Плыл, в мейнстрим, как ни старался, не попадая. Плыл, от жары плавясь и пламенно вожделея о тёплом ласковом море, куда ненароком прибьётся.
На берегах безвестных, безлюдных его бы пьяно тамтамы встречали, соловьи, завидя громадину, заливались, попугаи непечатными словами – откуда, от кого набрались? – громко картавя, встречали, воробьи чирикали, гулили голуби, вороны каркали, что-то пророча. Радуга – многоцветно и многозвучно – во весь горизонт, словно транспарант, то ли «старт», то ли «финиш», приветствовала бы огромный остров плавучий. Деревья, и пальмово широколиственно, и хвойно, зелёно, шипуче деревянного монстра скольжение по воде радостно бы благословляли. Ну, а светила, дневное, ночное, понятное дело, золотом и серебром слепяще его скольжение по волнам бы радостно озаряли.
Ей стало тошно. Придумав, зазвав и собрав, остаться одной, с тоской фестиваль озирающей, для этого надо было очень хорошо постараться. Делать ей здесь больше нечего. Отодвигая волосатую голую задницу, она спустилась с помоста, над которым радужнобуквенно красовался плакат: «Против страха – фестиваль траха», и среди потных тел, стонов и хлюпанья стала к выходу пробираться. У двери, наткнувшись на треугольник два и одна, об углы, пытающиеся её завлечь в качестве биссектрисы, слегка наколовшись, всё-таки улизнула, дверь на малую щёлочку отворив, вместе с дымом выскользнула к спасительным лифтам. Едва протиснувшись, выползла и услыхала. – Помнишь, ногти его тёмно-бордовые, волосы серебрящиеся до плеч, чванливо блестящие рукава расклешённые, штанины зелёные, ого-го облегающие длинноного? А рубашку – дикие многоцветные джунгли – расстёгнуто безволосую грудь обнажающую? Ботинки цвета неистового, тяжеленые, чтобы от земли не оторвался и в небо шариком не улетел? Удлинённое лицо его, разноцветными полосами гротескного макияжа исполосованное, не позабыла? Блестящие веки и губы? Круг на лбу золотой тоже не помнишь? Забыла, как на великолепного зыркали, знобко глядели? Помнишь самца, смердящего духом времени, самок манящего? Забыла разукрашенного перед битвой? Не хочешь помнить бешенство, когда его недостаточно замечали? Забыла? Так вот. Он теперь в женском прикиде. Поняла? Ясно, почему ты ему уже не нужна? – Это какой-то чмо, это не он. – Как не он, а то кто же? – Никогда таким не был. – Ты его просто не знала, дура, актёр выбрал новую роль. Только всего. – Врёшь! – Он тебе этого не сказал? Так вот услышь его голос: «Ты полгода со мною была. Тебе этого мало?». – Он не мог так сказать. – Не веришь… Ну, ладно. Придётся верительные грамоты, пусть наспех, это неважно, вручить. А это ты не забыла? Откуда мне знать? «Хочешь, я тебе что-нибудь буквами нарисую?» Забыла? Подумай!
Мальчик-или-девочка Вышел-вышла на улицу Волосы развеваются на ветру Покрутив головой по сторонам Убежал-убежала не оглядываясь домой Испугавшись-не-найдя ничего интересного Хорошо маленьким-мальчикам-и-девочкам-маленьким Можно туда-сюда бегать в поисках интересного им не страшно бояться
Вызвала лифт. Зажужжало. Приехал, и дверь, скрипнув, открылась. Из лифта на нее пялился юный солдатик: форма в складках, вчера из упаковки, брюки подвёрнуты, ботинки не запылились, рукава плохо закатаны, маска сбилась, сидит кривовато. Новобранцев, не выдав оружие, развесёлых поставили сторожить: отсюда им ни на шаг, к ним внутрь ни полшага. Его послали узнать, что наверху происходит. Вообще-то, внутри они вольные люди, но ковчег того гляди, то ли по глупости воды зачерпнёт, то ли на айсберг сдуру напорется. – Что тут, – поправив маску, выдавил из себя, – что вы творите? – Фестиваль, разве нельзя? – А чего так орёте? – А тебе дело какое? – Мне пофиг. Командир послал разузнать. – Узнал? – А какой фестиваль? – Траха! – Какой? – Оглох или не понимаешь? – А что командиру сказать? – Фестиваль траха, так и скажи. – Какого траха? – Всякого, какого хочешь. Ты что, дурак? – Нет. – Вот так и доложи: фестиваль траха, всё в совершенном порядке, я не дурак, приглашают присоединиться. – А ты кто такая, что приглашаешь? – Я? Автор. Организатор. А ты, извини, похоже, дурак. – Думаешь, он мне поверит? – Не поверит, пусть придёт и проверит. И ему место найдётся. И тебе. И всем солдатикам, которых домой не пускают и трахаться не разрешают. – А тебе не нашлось? Вдруг для себя самой неожиданно ответила честно: – Нет, не нашлось. – Почему? – Наверное, не искала, – и посмотрела ему прямо в глаза, как это иногда с ней случалось, просительно и жалобно, совсем по-собачьи. Дверь из лобби вдруг отворилась, клуб дыма к лифтам метнулся, растрёпанная всадница на загнанном коне промелькнула, её груди взметнулись, кто-то невидимый парочку назад уволок, дверь захлопнулась, от фестиваля её и солдатика отделяя. – У вас там травка, – ошарашенно выдавил из себя. – Не только. – А что ещё? – Зайди посмотри. – Чего там я не видел? – процедил, бесполезно пытаясь скрыть любопытство и желание, сорвав с себя только надёванное солдатское барахло, к фестивальному торжеству приблудиться. – Давай! Заползай! – А ты? – Хочешь вместе? – Лучше здесь! – Здесь так здесь! – Ты согласна? – Ты тупой? – схватив за шею, его притянула, и смеясь через маску стала целовать, позабыв и о Кротком своем крокодиле, и о фестивале, и о солдатах, дежуривших у входа в ковчег, чтобы чистым сюда, а нечистым туда не прорваться. И было наспех, глупо, глядя со стороны, по-детски смешно. За лифтами, у окна, за пожарной сигнализацией. Он долго возился с ремнём – не привык, и она ему помогала – расстегнула, сдёрнула, опустилась на грязноватый пол на колени, руками сзади его обхватила, чтобы в окне раздвоенным грибом не белело, и увертюра оказалась настолько успешной, что опера сама собой отменилась. Покрасневший, спешным финалом ошеломлённый, высунув язык, он хотел в свой черёд на колени перед ней опуститься. – Тебе надо идти. А то командир тебе врежет. – Куда? – Точно тупой. Вот сюда, – обхватив, взяв потное в горсть, чуть сжав, куда врежут ему, показала. – Понял? Кивнул. – Одевайся. Оглядываясь на следы преступления, стал напяливать всё вместе и сразу, глаз от неё не отрывая. Получалось не очень. Она, не удержавшись, шлёпнув по попе, помогла с непривычными одёжками разобраться и в лифт затолкала, на прощанье намордник, никак не желавший держаться, поправила, за ушами пощекотав. Затрещав, двери лифта открылись, нажала на кнопку, и двери, закрывшись, друг от друга их отделили, лифт, дёрнувшись, двинулся вниз неохотно, со скрипом. Лифты, привыкшие за долгую жизнь к степенной неторопливости, с появлением развесёлых забегали одышливо, с посвистом, по-жеребячьи лукаво и весело, как будто вчера их установили.
Самолёт подлетал, за океаном прошлое, за которое цеплялась она, оставляя. А в наушниках бились, словно в тягучей падучей, электронные звуки, и, дребезжа, ломко звенели тарелки, заглушая и ею и им любимый голос Дэвида Боуи. И впрямь, какого чёрта он знает так много, что это плакать его заставляет? Какого хера он, сумасшедший, отказывается говорить? Он отрезал душу свою! Отрезал от нее? От себя? И билось, билось бесконечно и нестерпимо, рефреном, припевом, бог знает чем: «О, что ты наделал? О, что ты наделал?»
You know so much, it's making you cry You refuse to talk, but you think like mad You've cut out your soul and the face of thought Oh, what have you done? Oh, what have you done? Oh, what have you done? Oh, what have you done?
От этих слов, немощно незамысловатых, тугим ритмом стянутых в больной узел на горле, ей стало бесконечно тоскливо, словно сошла с поезда на неведомой станции, где никто её не встречал, и всю прошлую вечность ни одна нога не ступала. У входа в гостиницу, в пустом фойе, по дороге к лифтам новоприбывших встречала одинокая бронзовая голова. Чья – никто не узнал. Можно было прочитать на металлической бляшке, но никто читать не пожелал.
Смыв с губ следы скоротечной любви, она, едва протиснувшись, вернулась на прежнее место. Пиршество было в разгаре. Геометрия менялась, всё было в движении, старые фигуры сменялись новыми, которые сам Евклид едва ли узнал бы. Не всё было благостно, вспышки раздражения, даже гнева вспыхивали, но тут же гасились затяжкой, глотком, поцелуем. Дым, смешавшись с запахом пота и вожделения, с потолка на пол тяжёлым занавесом опадал. Открытые окна, к которым мысленно она пририсовывала решётки, от дыма плохо спасали, привлекая полицейские и солдатские взгляды. Стражам велено ни туда, ни сюда, в остальное не вмешиваться, они выполняют приказ, безмолвно глазея. Что им солдатик её рассказал? Ничего не видел, а другим с командиром своим не поделится. Но так ли сяк, а завтра в газетах, сегодня в Интернете появится: фестиваль траха на развесёлом ковчеге. И что? Кому от этого плохо? Чем здесь ещё заниматься? Сплетнями? Всё обсудили. Политикой? От неё сбежали сперва в разные страны, а теперь на фестиваль. Карьерой? Сейчас не только они, почти все в мире бездельничают, закрома подметая. Хорошо, кому есть что подметать. Ход мыслей её не задевая, фестиваль зашуршал немножко по-новому: решили пластинку сменить, в геометрию наигравшись. Придумали танец – друг за другом змеёй бегать по кругу, сидящих на полу огибая. И побежали, понеслись, кроме остающихся на полу, не уставших от прежних забав, всех в змею вовлекая. Потом придумали: оставшиеся тряпки – долой, змея должна быть исключительно голой, в райскую жизнь невинного Адама и невинную Еву старательно вовлекая. Вовлекли и её. Не отбивалась – сама всё задумала, как отказаться? И тут, кружась в общем веселье, услышала голос, который с другим спутать, как ни хотелось бы, не посмела. – Ты настоящая паучиха-богиня. – Может, просто богиня? – Нет. – Почему? – Потому что юношеской спермой питаешься, подобно древне… – какой «древне» она не услышала. Греческой, египетской, может, индийской? – Кроткий крокодил, похоже, ты спятил. – Пока, – бросил коротко, и в суматохе хриплый голос его растворился.
Несвобода – бабах по башке, тарарах – вдруг свободою обернулась, вместе с одеждой кожа сползла, и в колбе, со всех сторон и от всего защищённой, ретортно жизнь новая вспыхнула: гомункулы, увлажняя друг друга, блажили, восторженно партнёра своего обожая. Невиданный восторг наверняка от того – на дне сознания горничное зерно беспрестанно горчило – что понимали: фейерверк лишь на миг, едва вспыхнув – погаснет. Было сладко и страшно: и что не кончится никогда, и что этого больше не будет. От этих ощущений, мысли изгнавших, затворённый народ, зачарованный новой свободой, перестал париться и о будущем, и о прошлом, прекратив тянуть за яйца кота и прочую домашнюю живность, бросился в новое с головой и прочими потрохами.
Солдатик был тонконог, тонкорук, тонкошей, глазаст и ушаст. Несмотря на немалый рост, тотчас определён ею: фуфлыга, на что для себя неожиданно совсем не обиделся. От чёрной гривы до плеч осталось положенное при призыве. «Зато стирать быстрей и дешевле», – в последний раз над его причёской все, кому не лень, потешались. Спустившись вниз, доложил командиру: так, мол, и так, громкая музыка и большое веселье. Тот пристально посмотрел и, будто прочитав недосказанное, бросил: «Ясно, бардак», – и отвернулся: что наверху творили, его не слишком касалось. Не подожгли, стены не проломили, и ладно. «Иди отдыхай», – бросил коротко, не оборачиваясь. И солдатик потопал в комнату на втором этаже, отведённую для сторожей сумасшедшего ковчега, пьяного, обкуренного, громкого, развесёлого. Не раздеваясь, лишь свесив ноги, лёг и глядел в окно, где в лежачем положении ему обломилось лишь тёмное небо ночное с небольшим количеством облаков, а под ним, как догадывался, невидимое с кровати море с небольшим количеством волн. Спать не хотелось. От нечего делать стал размышлять. На этот раз о деньгах, которые, очень зря, никто не отменил, но чьё значение изменилось: они, ха-ха-ха, упали в цене. Бывает, глупость, пустяк могут жизнь перевернуть, а тут глобальный мор, вселенское поветрие, репетиция Апокалипсиса и какие-то деньги. Конь такой, конь сякой, кто куда первым доскачет. А если кони и Апокалипсис, значит, мор за грехи, а коль так: за какие? Если предупреждение, то, хотелось бы, поконкретней. А так, поди знай, что и как исправлять пусть не в идеальном, но не таком уж и мерзостном поведении. К примеру, то, что было четверть часа назад наверху. Грех? Глупости. Сама напросилась, да что там, напрыгнула на него, а он не сопротивлялся. Почему? Да потому, что отказывать гёрле есть грех настоящий. И, вообще, за ним грехов не водилось. Не успел? Всё впереди? Но пока – страдать от мора за что? Правда, он не слишком страдает. Армия армией, её всё едино надо отбыть, а то, что не ползает на животе, яйца о мокрые штаны натирая, а спит в гостиничной нормальной кровати – вовсе не наказание. Скорее удача. Всё-таки, что она в нём нашла? Там, внутри было всё что угодно. Почему не там и не с теми, а у лифта и с ним? Под эти размышления он задремал, и понятно, что ему ночью приснилось. А предыдущий день жизни, на всю жизнь запомнившись, из жизни вычеркнулся безвозвратно и навсегда, в отличие от сна, который время от времени к нему возвращался. И был сон о том, что брёл он с чужими людьми по чужой земле и говорил на чужом языке, на нём была книжка написана, перевод которой незадолго до армии прочитал. Забрели в дом, похоже, крестьянский, и ночью в закуток, где спал, старуха-хозяйка явилась. На этом спокойная часть сна завершалась, и начиналось бешеное безумие. Старуха, запрыгнув на спину и колотя пятками по бокам, а кулаками по рёбрам, визжа, его погоняла, когтями в кожу впиваясь. Он, суча ногами, старался сбросить её, бежал, мчался, взлетал, носился в воздухе, ковчег со всех сторон облетая, всё сильней, всё настойчивей подступало, но старуха колотила босыми ногами, и он взвивался, послушный её понуканиям, пока в какой-то миг обоих толкнуло, будто врезались в облако, ставшее тяжёлым и мрачным, всё перевернулось, и теперь он, на её спине оказавшись, бил ногами, она послушно летела, малейшему движению его покоряясь чутко и радостно, а он её вбирал в себя, словно, изголодавшись, сытный обед поглощая.
В этом чадном удушье личные пространства исчезли, общим сменившись, в нём развесёлая плоть торжествовала. Пьяного воздуха нахлебавшись, все ошалели. То тут, то там вихрилось и пенилось, вздымалось и опадало, челы то били кому-то челом, то восвояси отчаливали. Все с ума посходили, и двоечники, и отличники, и маменькины сынки, и бог знает чьи, и балетные, и цирковые. Дух разгульной вольницы развесёлой бесовский вселился, и они его избывали потом, спермой и междометиями. Народ, или, как между собой о себе говорили, толпа, от развеселия беря лёгкую передышку – с вольностью кислорода вдохнуть, по углам разбредалась, потаённые места друг от друга не пряча, сортируясь по интересам. Хрипло мурлыкали под гитару одни, философствовали о конце света другие. В этом углу обсуждали сексуальную немощь грядущего человечества, в том – интеллектуальную несостоятельность. Никому – свойство юности – в розовых тонах будущее не рисовалось. Этот цвет был явно не в моде. Зато в моде был каверзный Нострадамус. Некоторые, видно, тайные отпрыски кабалистов, буквы в цифры переводя и обратно, искали подтверждения самых скверных прогнозов и, понятное дело, расстаравшись, их находили. Всевозможные утопии и антиутопии, словно вирусы, в воздухе перемещались вольготно, только лови! Одним словом, в развесёлом ковчеге было нескучно. Как-то надо было коротать время до заветного часа. А когда стихло и опустело, разноцветные шары, развесельем надутые, сорвавшись с нитей тонких и в плотном воздухе почти незаметных, вырвались в окна и, подхваченные ветром, взлетели, над водой, закружив, воспарили, словно души умерших, ищущих пристанища и покоя, и полетели в поисках острова, где могли бы вновь и вновь, как райское блаженство, переживать иссякшее развеселье. Впрочем, кто шары и души поймёт.
Завтрак проспали. На обед собирались под дотошные полицейско-солдатские взгляды. Высматривала вчерашнего – не нашла. То ли прятался, то ли из ковчежного рая изгнали. Позвонила домой, доложилась. Соврав, что на исходе зарядка, а нужно обязательно по делам срочно звонить, попрощалась. Её мать пишет книги. Женские истории, не длинные, не замысловатые. Их читают, их переводят на разные языки. Ни на одном из них она мамины истории не читает. Ставя точку и отправляя издателю рукопись, тотчас – традиция и примета – новую начинает. В последнее время стала добавлять толику ужасов – умножив читательскую аудиторию, увеличить продажи. Только упали: для любителей ужасов её ужасы были не очень ужасны, а желающие наслаждаться простыми историями ужасов не переносили. Пришлось отступиться и не выдумывать. Отец её адвокат. Защищает продажных политиков. Больше сказать о нём нечего. И к словам его прислушиваться ни к чему. На него надо смотреть, когда в чёрной мантии, чёрном галстуке, с чёрными не седеющими волосами в белоснежной сорочке он, обеляя поставщиков гонораров, чернит их противников, правой рукой направляя судьям из отборных звуков выпеченные словеса, а уж когда и если и левую подключает, тогда… Нет, что происходит тогда, передать невозможно. Её брат дебил. Переходного возраста. Есть надежда, что вырастет – поумнеет. Дурак, нагугленный под завязку, в возрасте наивной мечтательности, или мечтательной наивности, что, конечно, одно и то же. Наивность без мечтательности редко обходится. А не наивная мечтательность – исключительно сумасбродство. Но её брата ни наивность, ни мечтательность никак не затронули. Он давно знал всё и подробно и был чрезвычайно практичен. У них всё хорошо. Всё так быть и должно. Включая брата-сына-дебила. Только она подкачала. В дружную семью не вписалась. Папина работа ей отвратительна. Мамины книги противны. От брата вечно потом воняет. Друг друга мама-папа-и-сын понимают прекрасно, вместе им хорошо. Она в их компании лишняя. Никто в этом не виноват. Ни она, ни они. Хотя это печально. Глянула в окно. Площадь перед ковчегом зазеленела: вытаптывать было некому. Подъёмные краны из травы выпрыгнувшими кузнечиками неподвижно застыли: стройки замерли, рабочие разбрелись по домам: пить пиво, драть жён, с ними же драться и орать на детей. Для строителей, привыкших к вольному воздуху, домашний чад в больших долговременных дозах невыносимо смертелен. У входа в столовую, совсем недавно ещё бывшую рестораном, стоял телевизор, настойчиво обвинявший во всех несчастьях китайцев. Те громко отнекивались. Им мало кто верил. Технологии воруют, права человека беззастенчиво попирают, за вирусом не досмотрели, пусть за всё и заплатят. Китайцев среди развесёлых не было ни одного. Потому заступников за них не нашлось. Так и повисло. Были они с миру по нитке, с бору по сосенке. После вчерашнего сложились землячества, хотя думали: латинство, индийство и прочее выветрится мгновенно, едва приземлятся. Латиносы, встречаясь, без зазрения пола даже с малознакомыми обнимались, щеками прикладываясь. Индийцы – ладони перед собой – намасте совершали. У латиносов сразу свары возникли: аргентинцы, перуанцы, чилийцы. Что поделать, индейцы миролюбием не отличались. Зато, всего одной буквой разнясь, индийцы были очень миролюбивы и в сексе безумно изобретательны. В этой тусовке с кем-то рядом оказаться случайно – повод достаточный познакомиться; услышать слово на родном языке – подружиться; поделиться едой или одёжкой – превратиться в друзей закадычных, для чего за кадык закладывать вовсе не обязательно, есть способы, куда эффективней способствующие сближению. После обеда их в заветном лобби собрали, привели доктора, высокого, тощего, словно смерть, по дороге косу потерявшая, и стали пугать. Минуты три все пугались, слабонервные – пять, потом зашевелились, оглядываясь, вспоминали и предвкушали, заулыбались, стали смеяться, сперва потихоньку, рот прикрывая, затем в полный голос. А зря. Увидев такое, доктор напрягся, какая-то струна в его музыке лопнула, и он, впадая в жестокий нуар, савонаролисто загремел, дерзкую глупость сидящих перед собой обличая. Он яростно живописал муки задыхающихся, чьи лёгкие нынешний вирус пожирал так сладострастно, что остальные – их на свете развелось великое множество – были по сравнению с ним сущими импотентами. Вздёрнувшись, вздрючившись, доктор, струны басовые неласково теребя, начал описывать страдания ждущих подключения к аппарату искусственной вентиляции, описывать так, что дантовы грешники в ужасном аду выглядели уже не страдальцами – заблудшими овечками, которых журили не слишком сильно, по-итальянски небрежно, слегка. Изнемогая, летальными словами публику поражая, доктор, жуткому своему красноречию поражаясь, дрожащими пальцами, бутылку с водой открывая, словно патологоанатом, поражённое тело вскрывая, поток слов на мгновение перекрывая, залил в глотку воду, деепричастный поток прерывая. Кадык дёрнулся, глаза вылезли из орбит. Ошизеть. И публика испугалась. И то сказать, никого из них никогда никто так не пугал. Куда Босху или Брейгелю-старшему. Не говоря уже о Хичкоке... [...]
Купить доступ ко всем публикациям журнала «Новая Литература» за июль 2020 года в полном объёме за 197 руб.:
|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
|||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Палец замыкающий производство замыкающего. . Букет цветов москва доставка цветов в москве букеты. |
|||||||||||

