Рая Чичильницкая
Сборник рассказов
Рассказы-зарисовки из «мемуарной» серии: мои рассказы-зарисовки, рассказы-воспоминания, рассказы автобиографические и полубиографические, а то и наполовину придуманные… о детстве и юности, об эмиграции и прочем… своего рода продолжение (второй том) сборника рассказов «Уроки музыки», опубликованного в журнале «Новая Литература» 12 марта, 2014. На чтение потребуется два с половиной часа | Скачать: Оглавление 4. Изгнание из рая 5. А у нас во дворе… 6. Секрет А у нас во дворе…

Скорее всего, такое бывает у каждого… Безотносительно к чему-то реально происходящему и логически объяснимому, по какой-то внезапной ассоциации подумается вдруг о чём-то или о ком-то… и мысль эта, непонятно почему возникшая в сознании, подобно букашке, случайно залетевшей в комнату через раскрытое окно, вскоре как-то материализуется: то, о чём подумалось, вдруг случается… или человек, которого не видел и даже очень давно не вспоминал, вдруг нам нежданно звонит, встречается или упоминается в каком-то контексте. Ведь было такое и с вами, правда? И как вы тогда на это реагируете? Я, например, каждый раз, когда со мной случается такое, радуюсь и удивляюсь, как маленький ребёнок. Каждый раз ощущаю я в этом что-то чудесное, восторгаясь материальностью мысли и связанностью всего. А потом размышляю, пытаясь понять… Что же происходит? Материализуется ли наша мысль в действительности, а значит, – создаёт? Или же только оповещает о скором появлении в пределах нашего восприятия уже материализованного и, следовательно, – информирует? То есть, работает ли наша мысль как активный созидатель или как пассивный передатчик сигналов? И есть ли вообще в этом разница? Ведь и материя, и сигнал по сути одно и то же: информационные волны, только разной частоты. И так далее, и тому подобное… Размышлять о таком я люблю. Впрочем, не пугайтесь, дорогой читатель, рассказ мой не о том, и больше ни о чём заумном в нём речь идти не будет, а пойдёт речь о сугубо жизненно-бытовом и весьма прозаическом: о дворе моей далёкой юности. Воспоминания, в общем. Хотя началом этим воспоминаниям послужил эпизод из вышеописанной категории… А случилось вот что.
Захотелось мне как-то написать о дворе моей юности… ну, а за этим желанием пошли-хлынули воспоминания: лица, голоса, имена, эпизоды. И тут как раз звонит невестка с вопросом: знакома ли мне женщина с таким-то именем? Вопрос задан неспроста… Дело в том, что к её близкой подруге на постоянное жительство приехали родители мужа, и теперь они все теснятся друг у друга на голове со всеми вытекающими из этого бытовыми неудобствами и взаимно раздражающими неувязками. И особенно всем докучает свекровь, которой здесь одиноко и скучно без привычных занятий, приятелей и языка. В общем, у молодых возникла идея нас познакомить. А что? Идея хорошая. Мы с ней одного возраста, родом из одного и того же города, и обе с музыкальным прошлым. Вспоминаю. Да, конечно же, Лиза – моя бывшая школьная одноклассница, о которой я уже почти сорок лет ни разу не слышала и не думала. Но надо ж, как раз накануне, размышляя о своем будущем рассказе, неожиданно о ней вспомнила. И вот… банально звучит, но как всё-таки тесен наш мир! Только подумать… именно она, Лиза, и оказалась той самой свекровью, которая, с тех пор как приехала, целыми днями только и делает, что жарит вредные всем котлеты и даёт никому ненужные указания. И что самое интересное – живёт она теперь в минутах езды от меня. Я чуть со стула не свалилась! Не столько от неожиданности, сколько от совпадения. Ведь я как раз собиралась писать о ней, о её семье и о дворе, где мы какое-то время соседствовали. А совпадение ли это? Мне спокойней верить в причинно-следственные закономерности, но кто знает, возможно, что всё есть ничто иное, как цепь сумбурно-бессмысленных совпадений. Впрочем, скорее всего, это и то, и другое одновременно.
Так вот, именно с этой Лизой судьба свела меня полвека (ПОЛ-ВЕ-КА! даже страшно подумать…) назад. С ней я училась с первого по восьмой класс, когда жила она ещё совсем в другом районе. И если бы не её визиты к бабке с дедом, проживающими в нашем подъезде, то мы за пределами школы, наверное, и не встречались бы. Навещала она их довольно регулярно, каждое шестнадцатое, чтобы получить свой, аккуратно обёрнутый в фольгу, подарок и съесть кусок торта: так помесячно, двенадцать раз в году, отмечался Лизочкин день рождения. И дружба наша тоже поэтому носила помесячный характер.
Я хорошо их помню – эту пожилую, непонятно по какому принципу слепленную судьбой пару: деда, Александра Борисовича, похожего на известного американского киноактёра Спенсера Трэйси, – декорированного героя войны с перекорёженным ранениями телом, острым умом и колким, но доброжелательным чувством юмора… и бабку, Галину Самойловну, – высохшую, длинноносую, с седым хохолком на голове и, несмотря на возраст, с прямой, как шпала, негнущейся спиной и быстрыми, неженственно-большестопыми ногами, обутыми в туфли старухи Шапокляк. Было в ней что-то от болотной птицы, клювом тычащей в покрытую ряской воду в вечном поиске пищи. Помню, ходил он вечерами, прихрамывая на своем протезе, в поисках супруги, вышагивающей круг за кругом по периметру двора. А найдя её, шутил: – Ну, давай, Галюха, кончай с вечерними моционами… Пора домой, любимая! А она ему в ответ игриво: – Да иди ты к **** матери, старый козёл! После чего брал он её нежно под локоток и разворачивал в сторону дома. И было в их удаляющихся, таких не совпадающих друг с другом силуэтах – его, пониже и прихрамывающем, и её, повыше и ровно вытянутым – что-то одновременно странное, клоунское и донельзя трогательное.
А непогожими вечерами, когда по двору гулять было невозможно, искал он её по соседям, у которых она засиживалась часами. Позвонит, бывало, в дверь и, стоя по ту сторону порога (внутрь он никогда не заходил, даже если приглашали), криво улыбается: – Моя инфекция здесь? Ну, как там, не утомила она вас ещё своими разговорами? – А ты что, старый хрыч, соскучился по мне?! Или проголодался? Цицку тебе дать? – выходила она к нему. И они шли домой ужинать.
– Как вам нравится этот лексикон? – ужасалась мама. Надо сказать, что дома у нас, хоть и ссорились, но такими грубыми словами не пользовались, а матерные, которыми Галина Самойловна не пренебрегала, вообще не произносились никогда, даже в разгар самых ожесточённых перебранок. Но мне, несмотря на манеру их общения, почему-то казалось, что Александр Борисович и его «инфекция» друг друга любят. Жили они в квартире на первом, цокольном, этаже, что тогда величался аристократическим словом – бельэтаж, и все соседи им завидовали, потому что долгие годы на весь дом телефон был только у них: Александру Борисовичу как ветерану и инвалиду полагалось, а другим нет. В те годы, чтобы позвонить, надо было бежать «на угол» и пользоваться публичным телефоном-автоматом, который чаще не работал, чем работал. Так что домашний телефон был предметом роскоши и не для всех.
Меня же больше привлекали книги, которых он насобирал множество и иногда давал почитать. Так, от него мне попал в руки сборник статей «О некоторых методах иностранных разведок», изданный в 1935 году «в помощь агитатору и беседчику». Помню, перелистывая пожелтевшие страницы с густо вымаранными именами будущих врагов народа – Ежова, Блюхера, Тухачевского, в год издания сборника не знавших, что и их скоро постигнет такая же участь, как и осуждённых с их помощью «агентов иностраных разведок», их недавних друзей и соратников. Тогда же, в тот год, они сами, ещё обласканные славой герои, были в почёте, на коне, и выступали в роли палачей. Веяло с этих страниц всё парализующим страхом… «Как пауки в банке», – думалось мне. Хотя весь ужас происшедшего до меня ещё тогда не доходил, книга эта – шокировала: ни с чем подобным мне до тех пор сталкиваться не приходилось. Моим родителям повезло, что родились они и выросли при румынах, и, познакомившись с Советской властью только в 40-м, за год до войны, полностью пропустили мясорубку тридцатых. И даже бабушке моей, которая ненавидела румын и, оставшись верной царю-батюшке, отказалась присягать королю Михаю, за что и была лишена права преподавания и вынуждена переквалифицироваться на шитье корсетов, ей тоже повезло с тем, что не жила она тогда ТАМ. Лизиным же бабушке с дедушкой повезло меньше. Были они родом из краёв, где Советы властвовали с 17-го, и довелось им познать совсем другую жизнь. Всё это я осознала впоследствии, но тогда я ещё этого не понимала и не ощущала преимущества буржуазно-румынского гражданства. Была я юной комсомолкой, искренне верящей в правоту ленинских идей, и когда мама по возвращении из продуктового магазина нежно вспоминала лавку Грабойса, где над прилавком каждый день висело по нескольку десятков видов колбас и всегда без очереди можно было купить тонко нарезанную, ещё теплую, ароматно-гусиную пастрому, я бурно с ней спорила, называя её «контрой».
В целом, Лизин дед мне был всегда приятен. Чего не могу сказать о её бабке, на которую у меня был «зуб», большой и долгий, выросший в моём сердце после свидетельства убиения ею утки. В те скудные времена было принято откармливать живую домашнюю птицу на праздники, и мои родители тоже как-то приобрели пару уток с этой целью. Утки жили в тёмном подвале, где нам и всем остальным соседям по дому были выделены маленькие закутки-сарайчики, и я спускалась туда ежедневно, чтобы тех уток кормить арбузными корками. Было мне тогда лет 8-9, и я очень гордилась возложенной на меня ответственностью. Наконец, в один прекрасный день их утиный срок подошёл к концу: близились Октябрьские праздники. Однако возникла проблема: никто в моей семье не был в состоянии лишить тех уток жизни. Да что там уток, даже оглушение живой рыбы проходило со слезами и муками совести. Галине же Самойловне подобные муки были несвойственны. Она решительно взяла в руку нож и наказала мне держать фонарик. Мы спустились в подвал, где и разыгралась жуткая сцена, а у меня случилась жуткая истерика, в результате чего несчастная утка с недорезанной шеей, пенящимся клювом и с истошными криками металась по подвальной тьме, свет моего фонарика метался вместе с ней, а Галина Самойловна кричала на меня, потому что, если бы я не заорала в тот самый момент перерезания горла, то её рука бы не дрогнула, и нож бы не соскользнул, и птица бы не выскочила… В общем, был полный, запомнившийся на всю жизнь кошмар, после чего Лизину бабку возненавидела я надолго и, про себя, переиначив имя Галюха, каким называл её муж, окрестила её старухой-Гадюхой.
А двор мой, раскинувшийся на две «писательские» улицы, названных именами литературных классиков, я, надо сказать, любила. Был он весьма примечателен и достоин описания. Большой – не меньше того, предыдущего, на Скулянке, где я родилась и прожила семь лет[1], но в этот раз уже ограниченный каменным забором с четырьмя выходами в разные стороны. Именно у этих выходов мама впоследствии расставляла патруль – папу и бабушку – в ожидании моего возвращения со свиданий, хотя и знала, с кем и куда я иду, и что вернусь не поздно, и что вообще-то мне уже за двадцать. В этот двор переехали мы зимой 59-го, и прожила я там целых восемнадцать лет, до самого отъезда. Во дворе, засаженном клёном и тополем и размеченном асфальтированными дорожками, располагалось семь домов-коробок: адреса их были почему-то поделены между русским и молдавским классиками, и получалось, что часть домов принадлежала одной улице, а часть – другой, хотя все они находились в одном и том же, неразделённом дворе. Дома, следуя архитектурной моде тех лет, – кательцовые близнецы-четырёхэтажки, по два-три подъезда каждый: шесть – по периметру, и наш – в середине рядом с площадкой, где стояла беседка, возле которой летом иногда происходили культурно-развлекательные мероприятия и показывали фильмы на простыне-экране. Например, какую-то чёрно-белую хронику или познавательно устрашающие короткометражки о заразных болезнях. Там же, в рамках мероприятий «летней площадки», сыграла я свою лучшую роль, козла из «Сказки о козле». «Здравствуй бббааа-бббааа, здравствуй ддддеееедддд, я пришёл свааарить ооооббббеееед!» – самозабвенно блеяла я. Роль была заглавная и сильная, а перевоплощение – полное и «по Станиславскому»: сделала я себе картонные рожки, ватную бородку… В общем, успех и бурные аплодисменты. Там же, рядом с беседкой, высились железные столбы с натянутыми проводами, на которых развешивали бельё и выбивали ковры. На эту площадку выходили наши подъездные двери. А сзади дома, в сторону, куда «смотрел» наш балкончик, тоже была площадка с беседкой, но уже поминиатюрней: там собиралась «золотая молодёжь» нашего двора – юные в узких брючках стиляги и хулиганы с гитарами, очень меня, четырнадцатилетку, интриговавшие, а потому летними вечерами, когда, наконец, подходили к концу мои фортепианные истязания, я на полной громкости врубала румынские «Мелодие Преферате»[2] и, прячась за балконной занавеской, следила за реакцией. Длилось это недолго, потому что родители мои такую громкость не выдерживали, а музыку такую не поощряли. Всё, кроме классики, у нас считалось «немузыкой» и слушать мне строго не рекомендовалось.
Впрочем, когда мы туда переехали, двора как такового ещё и не было, а была там перерытая рвами, уставленная машинной техникой и окутанная сизым дымом, постоянным грохотом и трёхэтажным матом строительная зона. Стоял бесснежный декабрь, всё увязало в грязи, а мы были одними из первых, вселившихся в «законченные», плохо просохшие квартиры, от стен которых уже что-то отклеивалось. Однако всё познаётся в сравнении. После Скулянки и многолетнего ожидания в очереди, в которой папа всегда был вторым, наше новое жилище (типичная маленькая двухкомнатная с кухонькой хрущоба в доме с плохой звукоизоляцией… но были УДОБСТВА!!! – радиаторное отопление, газ пропан для варки в баллонах, холодная вода на кухне и в уборной, белые унитаз и ванна!) было в то время вызывающей зависть редкостью, и счастью нашему не было предела. Ну, а когда с годами стройка закончилась, квартира окончательно досохла (о чём свидетельствовал наш «музыкальный» паркет и набухшие окна-двери), а двор наш залечил свои раны и его рубцы покрылись зеленью, то нам вообще жить стало очень здорово. Не прошло и десяти лет, как баллонный газ пропан заменили натуральным, из кранов потекла горячая вода и нам установили заветно-долгожданный телефон. И тут бы уж почить на лаврах бытового рая, да нет… Как раз тогда, к тому времени, кругом начались бередящие душу предэмиграционные разговоры. Но об этом в другой раз… Не в пример Скулянской магале моего детства, контингент жильцов нашего нового двора, несомненно, тянул на более высокий калибр: намного меньше люмпен-пролетариата и больше народа с «верхним» образованием. А главное, все старались жить «прилично» или, по крайней мере, делать вид, что так живут. Пить, конечно же, пили и меж собой ругались, но не припомню случая, чтобы гонялись друг за другом с ножами, крали у соседей вещи или снимали с себя нижнее бельё на потеху публике. Во дворе жило много детей разного возраста, большинство из которых училось в соседней, граничащей с двором школе, и, казалось, только мне одной надо было тащиться куда-то на край города в мою треклятую музыкальную десятилетку.
Тащилась туда и Лиза, но только из другого района и с другой улицы, где она тогда проживала. Была она музыкальна, с бегло-пухленькими пальчиками и хорошим бархатным тоном. У неё очень здорово получался Шопен и, не в пример мне, она совсем не боялась выступать на сцене. Помнится, она много читала (хотя тогда большинство из нас было многочитающим), да и умом была поглубже и поострей большинства одноклассников. Разговорно общаться с ней мне было интересно, но дружила она со мной, в основном, из соображений пользы, а поэтому глубокой дружбы у нас не получилось: так, приятельствовали и всё. В школьных кулуарах, где я не слыла популярной и признаваться в дружбе со мной было бы глупо, о нашем приятельстве мало кто подозревал, но когда Лиза приходила навещать своих стариков и бегала ко мне на второй этаж спасаться от скуки, мы с ней очень дружелюбно и неплохо общались. А Лизина бабка, старуха-Гадюха, души в ней не чаяла: показатель того, что всё-таки где-то тлела у этой высушенной, как сучок, старухи душа, и «ничто человеческое» даже ей не было чуждо. С другими же вела она себя совершенно иначе. Помню её сидящей на своём посту – зелёной скамейке напротив нашей подъездной двери, не пропускающей мимо ни одного соседа без того, чтобы не сказать ему прямо в лицо что-нибудь бестактное, а потом, за спиной, добавить ещё какие-то уже совсем интимно-гадкие подробности. По обе стороны от неё обычно восседали две соскамеечницы: достойная компания. Тётя Маруся, осеняющая себя частым знамением, елейная старушка в расшитом цветами платочке (что, впрочем, не мешало ей злобно проклинать свою квартирантку и мыть косточки многим другим), специализировалась по делам сердечным и следила за общественной моралью. – А вон он, ейный хахиль идёт… глаза его бесстыжие… Муж из дому, а он, как миленький, тут как тут… Ни стыда, ни… Ох, не выдержу, доложу я всё Лёвке-дураку, – кипела она, окрещиваясь трёхперстием, – как эта его шлюха ему рога наставляет, ей богу, доложу! Лёвка-дурак был строительным прорабом и мужем крутозадой парикмахерши-шлюхи Бэллочки, нашей соседки по этажу, и рога у него были, действительно, на загляденье, ветвистые. – Да ему, что говори, что не говори, один толк – не дурак он, а настоящий поц! Ему, видите ли, нравится, как она готовит… Небось, ему не только это в ней нравится! Тьфу! Противно! – сплёвывала в сердцах старуха-Гадюха.
– А всё потому, что зажирели… не тем живут… Им бы одну настоящую голодовку, шоб мóзги прочистить, или в тайгу гнуса кормить… Ой, нету на них товарища Сталина… Слова эти принадлежали малограмотной старухе без имени, матери каменщика Мони Лурье, работающего с моим папой в одном строительном управлении. Несмотря на свою малограмотность, старуха являлась в той троице самой идеологически подкованной. – Дык рыба ищет, где глыбже, а человек – где лучше, – собирая в куриную гузку свои бесцветно-морщинистые губки, философски замечала тётя Маруся. Так она реагировала на все услышанные ею новости, и непонятно было, считает ли она эти новости положительными или отрицательными. Именно этим выражением и проводила она нас в эмиграцию.
Кстати, несколько отклоняясь от линии моего повествования… Много лет спустя, уже будучи в Америке, натолкнулась я на материалы одного генеалогического, вошедшего в книгу рекордов Гиннеса, исследования[3], доказавшего принадлежность фамилии Лурье к одному из наиболее старинных и аристократических еврейских семейств, взявшей своё начало от царя Давида и затем рассеявшейся по свету, давших миру плеяду великих, знаменитых, талантливых, успешных и известных практически во всех областях человеческого развития. Поистине единицы в современном мире имеют повод гордиться древностью и исторической уникальностью своего происхождения, а тут тебе – 30 веков – и какие имена! Одним из наиболее ярких представителей в истории этого рода был один из самых выдающихся учёных еврейского народа, Раши. Именно в память о его великом наследии пошла традиция добавлять к имени каждого ребёнка, рожденного у его потомков, выражение Ле-ор-йа[4], с годами преобразовавшееся в Лурье, Лурья, Лурия, Луриа, Лурий, Лори, Лория, Лури, Лурьев и ряд других созвучных вариантов. В длинный список выдающихся потомков рода также вошёл и знаменитый финансист 19-го века, финансовый советник Александра I – Йона Лурье, впоследствии поддержавший ветер свободы, равенства и братства, – почётный француз и друг Наполеона. Там же всемирно известные учёные, литераторы, раввины, педагоги, врачи, инженеры, деятели искусства и общественно-политические деятели. Реформаторы Фрейд и Карл Маркс; музыкальные знаменитости, композитор Феликс Мендельсон и скрипач Иегуда Менухин; лауреат премии Пулитцера – Дэйвид Альберштам; второй президент Израиля – Ицхак Бен Цви; семейство баронов и банкиров – Ротшильд; знаменитый философ – Мартин Бубер; законодательница косметической промышленности – Елена Рубинштейн, и многие другие тоже имели корни в этом семействе, несмотря на то, что фамилии их (следствие браков дочерей) уже были другими… Надо отметить, что ни наш сосед и потомок царя Давида – каменщик Моня, ни его два отпрыска ничем особым не отличались, да и остальные члены его семьи – тоже, кроме как своей колоритностью. Возможно, ген величия рода Лурье, из которого происходил Моня, почему-то ему не передался: так сказать, обошёл, перепрыгнув через поколение. Впрочем, ни обойденный геном Моня, да и никто из его окружающих понятия об этом не имели, а потому им совсем за это обидно не было.
Так вот, возвращаясь к моему повествованию… безымянная, идеологически подкованная Монина мать, занимающая достойное место на зелёной скамейке по левую руку от старухи-Гадюхи, жила в соседней с нами квартире, и имя, конечно же, у неё было, просто никто его не знал. Голова её была повязана вылинявшей, в прошлом красной косынкой, как было принято в годы её революционной молодости. По той же моде величала она всех соседей только по фамилии и товарищами или гражданами. Мою бабушку звала она «хаварте» (в переводе с идиш, товарищ) Кацман, и это означало, что к бабушке относилась она тепло, потому что, если бы относилось похолоднее, то называла бы ее более официально: «геноссе» (в переводе, гражданка) Кацман. Видом старуха Лурье напоминала мне черепаху, но, увы, вовсе не мудрую, а замордованную жизнью в советско-еврейском биробиджанском раю – по выражению её сына, Мони, приходившего к нам «забивать» с моим папой «козла» – «страны Лимонии, где семеро плачут, а один смеётся». Ничего хорошего, кроме тяжестей, голодовок, таёжного гнуса и незаживающей трофической язвы на обеих ногах, ей на век не выпало, а тут, на старости лет, ко всему еще и прибавилась «ЭТА» – она задыхалась, перебирая свой убогий русско-идишный словарный запас, не в состоянии подобрать нужные слова, – «ЭТА… детдомовская тварь, Ларка», – её, «ни на что не годная» невестка, у которой «руки растут из одного места». Читателю уже, наверное, ясно, что, несмотря на свою родословную, аристократическим семейство это не являлось… Громкие, разносящиеся по всему двору скандалы на хозяйственно-бытовые темы между свекровью и невесткой не прекращались, а если и прекращались, то ненадолго. И одна, и другая – «сумасшедшие чистёхи» – никак не могли поделить пальму первенства. Они страстно ругались по поводу мойки полов, окон и тарелок и всячески, вплоть до полного переделывания уже сделанной работы, пытались дискредитировать плоды труда соперницы. В ход шли истошные вопли, изощрённые проклятия и злобные оговоры. Как и в тот вечер, когда усталый Моня – потомок царя Давида – по приходу с работы, не выдержав спора о том, как надо правильно крахмалить наволочки, схватил кастрюлю свежесваренного украинского борща и выплеснул его в только что выстиранное белое бельё, а потом хлопнул дверью и, как ни в чём не бывало, ушёл к нам, оставив своих женщин перестирывать в молчании. Ах, как я мечтала, чтобы мой папа совершил что-нибудь подобное… Но Моня был жлобом, а мой папа – хорошо воспитанным, и поэтому наши кухонные скандалы были беспрерывными.
Подобно выездным тройкам времён военного коммунизма, три мегеры, восседающие на зелёной скамейке, беспощадно судили всех и вся. Судили разводку-Лилю с четвёртого этажа, помешанную на кино и водящую к себе мужчин, подцепленных на бульваре, а детей своих оставляющую на произвол судьбы. – У таких приличных родителей, а выросла такая б****! Недаром муж её бросил, а маму схватил инфаркт… И помешанную на ремонтах Марину Ильиничну с третьего: – Вечно у неё какие-то перестановки, вечно какие-то фантазии, а бедный Роман Александрович… и чем она его только кормит?! Вместо еды читает ему свои стихи, а кому, спрашивается, нужны её стихи?! Она бы, дура, лучше суп человеческий ему сварила… у него ведь язва желудка, и неспроста! Стихами язву не вылечишь: питаться надо нормально, вот что! И семью молдаван, живущих над нами, за то, что они на базаре спекулируют помидорами со своего огорода, несмотря на то, что глава семьи, Коля-крановщик, занимает почётную должность народного судьи. – И как ему только не стыдно, и как он не боится, ведь рано или поздно «там, где надо» узнают… Ну и, конечно же, Марью Степановну, прозванную «генеральшей» за её непомерную гордыню. – А что, проходит себе мимо, делает вид, что не знает, как нас зовут… ни разу не остановилась. – Ну, конечно, она ж выше… белая кость: муж-то ейный был настоящим генералом… и из семьи она непростой. – Ну был, и что? Расстреляли его за то, что Псков не удержал. Да и она свое отсидела. – Так ведь реабилитировали… – Ну и что? Ведь всё-таки сначала ж расстреляли?! – Да, товарищ Сталин просто так не расстреливал… значит, было за что… – Гордячка она, вот и всё. – Что ж… дык рыба ищет, где глыбже… Что говорили о нас, не знаю, но могу представить… Мама с бабушкой не ладили, родственники за границей были, одевалась я не «по-нашему»: в общем, материала предостаточно…
Иногда на ту скамейку подсаживалась бледная старушка с первого этажа – имени не припомню – одетая по-зимнему в любое время года: у неё не циркулировала кровь, и она всегда молчала. Зато её шизофреничка дочь Нина любила поговорить, и… уж там шёл поток (без)сознания… особенно, перед сезонными приступами, когда она начинала разбираться со своими неухоженными кошачьми, а их у неё было множество. – Ах, ты проститут! – кричала она своему блохастому разодранному коту, – не строй мне глазки! Всё равно домой не пущу – иди к своей потаскухе! За этим обычно следовало выбрасывание из окон какой-нибудь утвари, пакетов с сухими продуктами, истошно мяукающих животных или ещё чего-то… После этого вызывалось скорая помощь и Нина исчезала, а через пару месяцев возвращалась на время, тихая и задумчивая. Ах, уж эта зелёная скамеечка под обвитым диким виноградом навесиком. Проходя мимо неё, я всегда ощущала жжение в спине и запах серы в воздухе…
Лизина бабка – главный прокурор дворового морального трибунала – многие годы возглавляла ту скамейку. Беспощадно и без дискриминации она оговаривала всех подряд и знала все обо всём в мельчайших подробностях: кто с кем, кто как, где что и, конечно же, кто и сколько. За что Александр Борисович звал её «моё Совинформбюро», а соседи, немного побаиваясь, как ни странно, всё же доверяли ей сокровенное, охотно рассказывая о мужьях, детях, любовниках, родственниках, абортах, делясь своими секретами, планами и показывая свои сберкнижки. Она же на их откровенность отвечала открытым презрением без выбора выражений. А я всегда задавалась риторическим вопросом, почему у людей, особенно женщин, есть такая потребность болтать о себе, причём зная, что это тут же разойдётся дальше? Единственно, о ком Галина Самойловна никогда дурно не отзывалась, это о своих дочери, зяте и внучке: для неё они были святыми. Только и было слышно: «моя-Таня-мой-Нюма-и-моя Лизочка» то, и «моя-Таня-мой-Нюма-и-моя-Лизочка» это, и как всё у них лучше, чем у всех. И действительно, жили они тогда по советским стандартам весьма благополучно и вроде меж собой мирно. Дом полная чаша: хорошая квартира, полированная мебель, дорогой хрусталь, ковры, макинтоши, золотые часики. Я побывала там однажды, но и этого было достаточно, чтобы увидеть разницу между нашими жилищами. Нюма был врачом с частной практикой, Таня – домашней хозяйкой с прислугой. Оба рослые, откормленные, холёные, с породистыми лицами английских мопсов и зажиточно-буржуазного вида. И Лиза – маленький Топседик[5] – будущая концертирующая знаменитость… Только однажды в разговоре случайно у старухи проскользнуло… А произошло это вот как…
Как-то весной старуха-Гадюха слегла с простудой, перешедшей в воспаление лёких. Супруг её ухаживал за ней как мог, будучи крайне ограниченным своей инвалидностью. И, зная это, соседи по подъезду старались помочь по мере возможности: кто чего сварит, кто сходит в магазин за хлебом и молоком. Как-то мама моя с кастрюлькой супа зашла навестить больную, и в это время пришла к той дочь. – На! – швырнула она свёрток на стол. – Принимай ваши тряпки! – и тут же развернулась в направлении двери. – Танечка, куда ты так спешишь? Посиди… Дочь обернулась. – Вот ты лежишь тут, как баронесса, на всём готовом, а у меня обеденный перерыв кончается, и я из-за вас не успею поесть. И громко хлопнула дверью. Мама остолбенела, мечтая провалиться под землю от неловкости. Она уже от кого-то слышала, что в ответ на проходящую в то время «борьбу с тунеядством» Тане пришлось пойти работать в прачечную, принимать и выдавать бельё, и поняла, что в свёртке было что-то, постиранное для родителей. Ясно, что необходимость работать после стольких лет могла Таню крайне раздражать, но… не до такой же грубости?! После ухода дочери старуха расплакалась. – Танечка такая нервная в последнее время: все её раздражает, – всхлипывала она. И узналось, что не всё уж так хорошо у её детей. И в отношениях между собой, и у Лизочки. – Ах, бедная девочка, этот негодяй, чтоб он горел, хорошо вскружил ей голову! Оказалось, что внучка, уже старшеклассница, по уши влюбилась в одного инженера, ради кого и бросила учиться, а он… он оказался лжецом и, что самое ужасное, семейным! Ну как это можно перенести?! Слушая это, я представила её дрожащую длинную в морщинах шею, содрогающийся птичий хохолок, слезу, катящуюся вдоль её длинного носа, и покрасневшие старческие глаза, которые она утирает клетчатым мужским платком, и… пожалела её. А пожалев, сняла с неё грех убиения утки и перестала про себя звать старухой-Гадюхой. Пожалела я и обманутую Лизу, которая, конечно, не в пример «бедной Лизе» топиться не стала, но всё же, наверное, здорово переживала. Утешить, однако, мне её не удалось, так как та ничем таким со мной не поделилась, а расспрашивать не хотелось. В общем, выходило, что ничего с ней такого не произошло, а учиться она перестала на время совершенно по другим соображениям. Так и осталось неясно, действительно было ли это или бабка её всё зачем-то придумала. Впрочем, важности для меня в этом не было, и история была вскоре мной забыта.
Прошло время. И вот случилось, что, сменив квартиры, свою и Галины Самойловны, на одну побольше в другом доме нашего двора, поселились они всей семьёй вместе. А случилось это вскоре после кончины Александра Борисовича, которую пережила Лизина бабка стоически, без единой слезинки, и на похоронах которого никто из детей не присутствовал. И казалось бы, чего ей теперь надо? И пенсия приличная, и квартира, в которую ещё кого-то можно было подселить для дополнительного дохода, своя, отдельная, и вообще… сама себе хозяйка. Почему Галина Самойловна съехалась с детьми, так и осталась для всех тайной. О себе старуха рассказывать не имела привычки. Короче, отдала она свою квартиру, отдала свою пенсию и… полностью исчезла из жизни нашего двора. Ходили слухи, что жизнь у неё стала с того момента совершенно «чёрной», что дочь её запирала холодильник на замок, морила старуху голодом и так далее. В последний раз её видели во дворе морозным январским утром, когда, как рассказывала одна из свидетельниц, Галина Самойловна, выходя из подъезда и поскользнувшись на обледеневшей ступеньке, растянулась на асфальте перед домом, а её видевшая случившееся внучка, вместо того чтобы оказать бабушке помощь или позвать кого-то, просто прошла мимо и ушла по своим делам. Подняли же её и вызвали скорую соседи. Оказался перелом шейки бедра. Травма в её возрасте незалечимая. Это и был последний раз, когда старуха выходила во двор. Помнится, что, прослышав о бедственном положении Галины Самойловны, «генеральша» Марья Степановна куда-то звонила от имени дворового комитета и оттуда прислали комиссию разбираться. Старуха, однако, держалась стойко и на все вопросы отвечала, что всё, мол, в порядке и жалоб нет. Как всегда, о своих детях она говорила только хорошее… Не знаю, было ли всё это правдой, но даже если и да, то было оно ею за свой нрав вполне заслужено. И всё-таки, иногда, проходя мимо её нового обиталища и видя её за оконным стеклом, со слезами, стекающими вдоль сизого, длинного носа, беззвучно двигающую губами… «помогите, помогите…»,… болотную птицу в клетке… мне, несмотря на всё, становилось её очень жалко.
А потом её Лизочка неожиданно вышла замуж, и на свадьбе своей любимой, единственной внучки Галина Самойловна отсутствовала. А затем, после свадьбы, молодожёны поселились где-то в другом районе. Что было дальше, не помню… Годы спустя мама рассказывала о том, что я, выходя замуж, хотела пригласить Лизу на свадьбу, но не знала, где она живёт, а родители её мне почему-то адрес не давали, и что Галину Самойловну постиг инфаркт, и что перед отъездом она (т. е. мама) пыталась со старухой попрощаться, но двери ей не открыли, хотя кто-то явно дома был и слышал, как она звонила в дверь, и поэтому попрощаться не удалось… Ничего этого я уже не помню, но поскольку моя мама помнит ВСЁ, я уверена, что всё именно так и было. И думалось мне, что, возможно, сейчас, когда мои с Лизой пути опять пересекутся, замкнётся ещё один круг, и всё не запомнившиеся мне детали прояснятся. Если, конечно, мы встретимся: ведь, как я поняла от невестки, она всё ещё дуется на меня за то, что я её не позвала на свадьбу.
Мои сомнения не оправдались. Через несколько дней Лизу привезли и произошла наша встреча, и… о боже… Конечно же, сорок лет – не шутка, и ясно, что всё изменились, но… Передо мной стояла Галина Самойловна, только намного плотнее и с носом покороче. Куда подевались Лизины медно-рыжие волосы и нежно-бело-розовая кожа? А глаза, где глаза?! Ведь у неё были, помнится, красивые глаза… И что стало с её тонкими, изогнутыми бровями?! Но самое главное, из облика Лизы начисто исчезла какая бы то ни было женственность. И её короткая стрижка «под мальчика», и квадратность лица, и чёрные башмаки на плоской толстой подошве, и фигура без каких-либо намеков на талию или бока – всё в ней дышало мужеподобностью. Создавалось впечатление, что передо мной стоит пожилой мужчина, обрядившийся для смеха в женские одежды и вместо груди напихавший в платье салфеток. Тем не менее, мы без особых сантиментов, воспоминаний и выяснения отношений, но довольно приятно пообщались. Надо сказать, что Лиза сохранила прежнюю остроту ума и глубину интересов, и я искренне порадовалась нашей неожиданной встрече. Время от времени после этого мы встречались, но в целом общение наше так же, как и в детстве, носило весьма односторонний характер. Я помогала ей с освоением языка и компьютера, с резюме и переводами, и ещё с разным. В конце концов, она как-то освоила язык и нашла работу, после чего наши отношения постепенно сошли на нет. Но тогда, в начале, будучи нуждавшейся в помощи и полной любопытства новоприезжей, она забрасывала меня бесконечными вопросами о здешней жизни, не давая возможности толком на них ответить. Говорила Лиза много и быстро, но о себе и о своей жизни ничего, даже на элементарно-фактическом уровне, не рассказывала. О своей семье и бабке – тоже. И только как-то, отвечая на мой прямой вопрос, Лиза сухо заметила, что в последние годы у той развился старческий маразм, и она никого не узнавала. Случилось ли это ещё тогда, перед нашим отъездом, или позже, было неясно. Осталось за кадром, как и когда она умерла и где была похоронена. Непонятен мне был и тот факт, что (как потом случайно выяснилось) Лизин сын никогда не видел фотографий своей прабабушки и даже не знал её имени. Как будто само упоминание о ней было зачем-то стёрто из анналов семейной истории. Поняв по Лизиному ответу, что говорить она об этом не хочет, я больше вопросов ей не задавала.
А Моня – потомок славного рода Лурье – всё-таки проявил себя неожиданно должным образом. Нет, он не стал ни талантливым раввином, ни гениальным ученым, ни успешным предпринимателем своего поколения, но, когда у его жены, Лары, инсульт отнял способность нормально передвигаться и разговаривать, он, этот грубый и далеко не аристократический мужчина, который мог вылить кастрюлю только что сваренного борща в свежевыстиранное бельё и, хлопнув дверью, уйти к соседу «забивать козла», в одночасье превратился в нежного, заботливого, преданного медбрата, поводыря, шофёра и помощника. Он стал её руками, ногами, глазами и речью и таковым остался до конца их совместной жизни. А двое его сыновей, уже за океаном, куда они перебрались впоследствии, по донёсшимся до меня слухам, достигли многого. Один, как я понимаю, преуспел в бизнесе, а другой – в науке. И оба они произвели на свет многочисленное потомство, таким образом, достойно продолжив генеалогическую традицию своей фамилии. Я слышала, что живут они где-то в Калифорнии. Кто знает, может, судьба тоже когда-нибудь ещё скрестит наши жизненные пути…
[1] О том дворе можно прочесть в моем рассказе «Гулял по Скулянке казак молодой» из сборника рассказов «Уроки музыки».
[2] Любимые мелодии (румынский) – музыкальная радиопередача из Бухареста.
[3] По материалам книги Нила Розенстайна (The Lurie Legacy/ The House of Davidic Royal Descent by Dr. Neil Rosenstein)
[4] посвящённый свету Всевышнего (иврит)
[5] Топсед (Деспот наоборот) – король из «Королевства кривых зеркал».
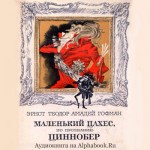
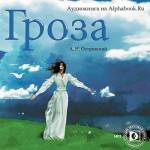

Оглавление 4. Изгнание из рая 5. А у нас во дворе… 6. Секрет |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|

