Вадим Каразёв
Восточная поэмаНа чтение потребуется 1 час 45 минут | Скачать: 18+ Опубликовано редактором: Вероника Вебер, 21.02.2014
Оглавление 1. Юность Абу Али ибн Сино 2. Рысь-паланг. Часть 1 Юность Абу Али ибн Сино
[1]
Вечен бессмертен не острый быстрый, как жало змеи, язык мой, а зебб мой сынородящий. Где то, что порождает язык мой тленный? А зебб мой порождает лакомых чад детей! Ей-ей!
Т. Зульфикаров
Глубоко в горах, в теснине хребта Сафет-Хырс, близ слияния рек Фан-Кафыр с Шивой, в самом центре Западного Бадахшана, на склонах предгорий раскинулся небольшой кишлак под названием Сафет-Банг. Жители этого кишлака, расположенного на высоте около двух тысяч метров, жили обычной жизнью горцев. Строили себе глинобитно-каменные кибитки с плоскими крышами, иногда крыша соседа служила двориком соседнего домика-кибитки, расположенного сверху по откосу. Они сеяли ячмень на площадках-террасах, устроенных на склонах гор, корчевали камни и устраивали стены террас, а землю носили чуть ли не в тюбетейках, отыскивая её на склонах, снимая дёрн там, где ещё он был. В реке ловили рыбу, заготавливали фрукты, сушили их и добавляли в ячменную муку. Держали мелкий скот, иногда удавалось добыть дикого козла или барана. Это занятие под силу было не всем, а только здоровым, смелым и выносливым. Дикие козлы и бараны всегда осторожны и осмотрительны, и редко подпускают охотника на расстояние убойной силы стрелы.
Река Шива была зажата между двумя хребтами: Сафет-Хырс и Лал. Местные рудознатцы знали места, где встречались камни-самоцветы, но главный камень-самоцвет был лал – Бадахшанский рубин чисто-алого цвета. Не часто, но эти камни с чистым алым цветом попадались в копях и продавались проходящим купцам. В пойме после спада воды буйно возрастала индийская конопля, которая также служила жителям. Из неё они делали волокна, из которых после ткали материю и шили себе верхнюю одежду, а во время цветения собирали пыльцу и готовили слезливую анашу, а из верхних нежных побегов заготавливали пахол (соломка, травка сухая). Это была ещё одна статья дохода жителей: анашу они продавали проезжим купцам, сами же покуривали пахол-травку, в долгие зимние вечера, когда собирались в мехмон-хоне, гостевом доме, и вели неспешный разговор о Боге, природных явлениях и, покуривая травку, отвлекались от однообразия будней жизни. Ещё в селении было два человека, занимающихся общественными работами: мираб и смотритель оврингов. В кишлаке была небольшая ирригационная система. Вода забиралась в верхнем течении реки и подавалась по арыку, проложенному по откосам и склонам гор, по каменной сыпухе, а там, где не получалось, делался подвесной жёлоб из стволов пирамидальных тополей, расколотых пополам и выдолбленных в них желобами. Это было сложно, поддерживать систему ирригации и её эксплуатацию, да и само строительство канала, требующее равномерного уклона для транспорта воды, нуждалось в особых знаниях, опыте и мастерстве. Эту воду пили, этой водой поливали огороды. Этим и занимался мираб. Другой по значимости человек был усто-мастер по устройству и обслуживанию висячих троп – оврингов. Река Шива впадала в исток Джейхуна, самой большой реки Азии, впадающей в Арал, и текла она на северо-восток от Восточного Бадахшана. Самая бурная и сильная река Азии, Джейхун[2], что означает Бешеная, оправдывала своё название. Она рвала ладони гор, пытающиеся удержать её, утихомирить. Она словно мельничными жерновами точила камнями, которые несла, дно ущелий. И потому её цвет был цветом серебра, благородной сединой патины. Река стремилась к своему отцу Аралу, который обитал среди пустыни, в сердце её, среди чёрных песков Кара-Кума. Чёрные пески пытались поглотить Арал, засыпая его, но он своей силой, своим прибоем отбрасывал их, намывая берег. Солнце палящее тоже было врагом Арала, оно отнимало у него драгоценную влагу, его кровь – воду. Дарья[3] Джейхун, его дочь, знала, что та вода, которую она несёт – это жизнь её отца. Поэтому она торопилась, и не было преграды для неё, которая могла её остановить. Она была неудержима, она всегда спешила...
Из глубины территории Афганистана к кишлаку Сафет-Банг вела тропа, где не всегда могли разойтись два ишака. У истоков реки Шива она проходила через невысокий, чуть выше 3трёх тысяч метров, совсем не опасный, как горб верблюда, перевал Пули-Санги. А дальше ослиная тропа шла вдоль русла реки Шива до самого кишлака. Но за кишлаком, через километров пять, тропа кончалась. Начинался овринг. Река сжималась хребтами и текла, сжатая ладонями гор, между почти вертикальными стенами скал, вздымающихся вверх, местами до полутора километров от ложа реки. Овринг – это тропа, местами укреплённая хворостом и приваленным камнями, местами это настил из хвороста в три слоя, лежащего на клиньях, вбитых в щели и разломы скалы. Иногда тропа входила в расщелину скалы и выходила ниже или выше, это значит, в расщелине была верёвочная лестница. Поднявшись или спустившись по ней, человек опять попадал на тропу-овринг. Но самые страшные отрезки овринга – это подвесная тропа, вроде мостика, который постоянно раскачивался, и всё это на высоте от семидесяти до двухсот пятидесяти метров над урезом воды в реке. Овринг был протяжённостью около одного километра, может, чуть больше. Грузы перекладывались с ослов на плечи носильщиков, ослы же оставались на попечении в кишлаке до возвращения купцов, отсутствие которых продолжалось неделями. На другом конце овринга их ждали люди со своими ослами для дальнейшего пути. Насколько трудна и опасна дорога тропы, говорит то, что носильщики этот путь, чуть больше километра, преодолевали за семь-восемь часов. Неопытному человеку не то что пройти с грузом, – стоять страшно, и только помощь опытных спутников помогала им преодолеть эту дорогу. Вот за состоянием этой тропы и следил Усто-Карим, смотритель овринга. За проход собиралась плата с каждого, кто проходил по ней: и с носильщиков, и с купцов. Платили, конечно, купцы, а на эту плату жил мастер и производил ремонт овринга. На месте входа тропы на овринг была выбита на скале надпись: путник, будь осторожен! Твоя жизнь здесь ненадёжна, как слеза на дрожащей реснице!
Купцы шли в Восточный Бадахшан за драгоценными самоцветами, но в основном за лалом, камнем, который украшал своим кровавым цветом короны повелителей мира и империй, шахов и шахиншахов. Основные копи этого камня находились на территории Восточного Бадахшана, откуда везли и второй по значению камень – ладжуар. Он добывался в копях Сары-Санг, Восточного Бадахшана. Ценился за свой цвет, индиго-синий, васильковый. Это был лазурит – Камень неба. Он добывался в труднодоступных местах, а сами копи находились в стенах вертикальных скал, к которым нужно спуститься сверху по верёвкам длиною по сто-сто пятьдесят метров. Иногда верёвки обрывались, и многие рудокопы погибали. Самым ценным видом лазурита, ценнее, чем лал, был лазурит цвета индиго поглощающей глубины с вкраплением зёрен пирита цвета золота. Они искрились в его нутре, как звёзды в небе. В горах деньги – золото и серебро – не имели того значения, какое они имели там, где торговля шла бойко. Селяне жили натуральным хозяйством. Горцам нужна была тонкая материя для нижнего белья и на платья женщинам, бронза и железо для инструмента, луки и стрелы, растительное масло, глиняная посуда, инструмент, ароматные смолы, – всё это обменивалось на камни-самоцветы, легендарное мумиё и анашу высокого качества. Назад купцы ехали хоть и с драгоценным грузом, но малообъёмным, не требующим много носильщиков. Так в разнообразном повторении проходила жизнь в кишлаке Сафет-Банг.
На краю кишлака около высокого берега реки, вблизи каменного увала с расположенном на нём кладбищем прилепилась кибитка из трёх комнат. На улице был айван[4] под раскидистым шах-тутом[5], с ягодами, красными, как лал, и сытными, как мясо. В сторонке соседствовал с кладбищем садик: несколько гранатовых кустов, урючины с плодами величиной с тёрн, и садовый сладкий миндаль, три яблони, а с одной стороны дома плёлся виноград сорта кишмиш, с белыми ягодами приторно-сладкого вкуса. Если им полакомиться и не помыть руки, они слипались. Внизу, в пойме, был клочок земли размером шагов пять на десять, во время самой жаркой поры он затоплялся водою реки, которая поднималась от таяния ледников, но к этому времени уже поспевала всякая травка-приправа: чеснок, лук, ранние огурцы, после паводка можно было опять высаживать всякую зелень. Она успевала созревать к началу осени. Ближе к обрыву в пойме росли две смоквы: одна в спелости давала плоды цвета мёда, а другая – фиолетовая до черноты с потаённым синим цветом, как глаза Азии. Пролётом залетали ненадолго майны, – индийские скворцы с жёлтыми клювами как у птенцов. На удивление крикливые, скандальные создания. Но умные и знающие толк во всём. Они клевали смоквы ещё зелёного цвета, но уже красноватые и сладкие внутри. Наглые воришки... В то короткое время при перелёте на юг нужно было отпугивать их, иначе урожая можно было не ждать. Сами же смоквы (инжир), достигая своей спелости, внутри набирали мёд-нектар и были вкуса необычайного, истаивая во рту, кроме того, по поверью жителей, они очищали кровь и поднимали тонус, излечивали раны во рту. Сушёные, они подавались зимой к чаю взамен сладостей, с которыми не были знакомы селяне. На склоне, впереди дома, среди валунов, было немного места, всего-то столько, сколько занимала кибитка, там сажали багарные бахчу, дыни-кандаля, арбузы и тыквы. Плоды не были велики, но вкуса были отменного. Рядом расположенное кладбище было в густой траве, с несколькими десятками холмиков с шестами, надетыми на них черепами домашних или диких коз. В отличие от окружающих холмов, имеющих лишь признаки растительности, на кладбище трава стояла стеной. Объяснялось это просто: на территорию кладбища нельзя было входить, кроме как для исполнения ритуала похорон, там нельзя было косить траву и вести выпас скота. Нарушение этих заповедей было великим грехом, ибо считалось, что это тревожит покой предков и их дух.
В домике-кибитке проживал пришлый человек, осевший в кишлаке, дервиш по имени Хаким Санг ибн Табиб. Он знал толк в травах, он был лекарь, лечил людей без платы, был мудр и мало говорил, он никому ни в чём не отказывал, и селяне были ему благодарны и возносили молитвы Богу, чтобы он продлил годы его. Он жил один, если не считать его юного помощника, который пришёл с ним. Звали его Дивона Талиб. Сам Хаким был искусен во всём: он ловил в силки горных куропаток-кекликов, иногда в силки попадался улар[6]. На речке он устраивал в боковой протоке запруду из камней, оставляя в середине проран[7]. На ночь он ставил под струю воды плетёнку в виде корзины из прутьев в форме эллипса. Рыба ночью шла вниз по течению и с водой попадала в корзину, вода уходила сквозь прутья, а рыба оставалась в корзине. В основном, это были форель и усач, сильная рыба, и, наверное, особо крупная и сильная в своих изгибах и биениях выбрасывала себя из корзины и уплывала. Но и того, что оставалось, от трёх до пяти рыбин, каждая из которых была не меньше трёхсот-пятисот граммов – хватало на завтрак. Иногда, когда есть не хотелось, Хаким выпускал рыбу в реку, если она ещё не успела уснуть. Попадала и диковинная рыба с крысиным хвостом – скафарингус[8], она заходила в местную речку на икромёт, а после по реке Шива уходила в Джейхун-дарью, в её низовья. Во всей Азии, кроме как в Джейхун, не водилась подобная рыба. Вкусом она не уступала форели, жители селения называли её мои-мушь, то есть рыба-мышь. Из всей живности старик держал пять-семь кур и петуха. Куры несли яйца, а петух будил по заре утро. Жителей удивлял лишь его ученик, Дивана Талиб. Он тоже был неразговорчив, часто уходил в горы и приносил травы, назначение и название которых не знали местные жители. Как правило, он не участвовал в лечении селян и никому не давал советов, поведением напоминал наивного ребенка, но он знал свою работу: убирал комнату, где Хаким лечил больных, следил и чистил нехитрый инструмент, используемый для лечебных процедур, стирал в реке бельё и тряпицы для перевязок, следил за режимом сушки лечебных трав и приготовлял мази и растворы. Но было ещё что-то в нём. Он мог лечить редкие и непонятные болезни, которые лекарь лечить не мог. Он это как-то сразу определял, и Хаким в этом случае никогда не чинил ему препятствий.
Наступало время весны. Горы покрывались зеленью. Зацвёл дикий миндаль-первоцвет. Не было в горах растения, которое бы цвело раньше дикого миндаля с цветами запаха горечи, как его орехи. Скоро должен был прийти караван. Он всегда приходил, когда цвёл миндаль.

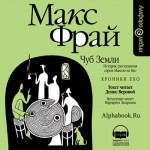
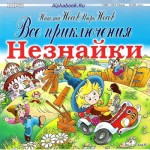
Оглавление 1. Юность Абу Али ибн Сино 2. Рысь-паланг. Часть 1 |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|

