Михаил Ковсан
РоманОбычная история жизни и смерти
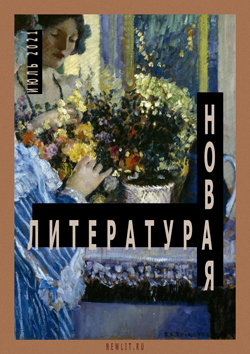 На чтение потребуется 7 часов | Цитата | Подписаться на журнал
Оглавление 1. 1 2. 2 1
Сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Бога его сотворил, мужчиной и женщиной Он их сотворил. (Книга Бытия 1:27).
Сказал Господь Бог: Нехорошо человеку быть одному, помощь создам ему – рядом с ним. … Господь Бог глубокий сон на человека навёл – он уснул, взял его часть, закрыл её плотью.
Образовал Господь Бог из части, взятой у человека, жену и привёл её к человеку.
Сказал человек: «Эта часть – кость от костей моих, плоть от плоти моей, будет названа эта – жена, ибо взята от мужа». (Книга Бытия 2:18,21-23).
В поте лица своего будешь есть хлеб до возвращения в землю, из которой ты взят: ты – прах и в прах возвратишься. (Книга Бытия 3:19).
Он спал и просыпался, замирал в полудрёме и вздрагивал от грохота тележек, словно все скелеты из всех шкафов города посыпались вдруг, в одночасье. На тележках перевозили лекарства и оборудование. Тележки немилосердно скрипели, разболтанные колёсики визжали на поворотах. Наверное, они специально не смазывают тележки и не ремонтируют, чтобы больные, сперва невыездные, затем невылазные из болотно засасывающей непролазности, не спали всё время, бодрствовать приучаясь. А также для того, чтобы все чудовища изо всех тёмных углов могли притвориться случайными тенями. Эта мысль показалась вполне плодотворной в качестве первого шага; после операции чуть ли не в тот же день поднимают, чтобы не приучались лежать, разучиваясь ходить. Перемолов эти мысли живые и мёртвые (те и раньше его посещали, но тут же куда-то сбегали), связав воедино, перемешав перемолотое, он это всё обратил в обобщение, практический вывод: писать в уме, пусть забудется, может, что и сохранится, главное, не залежаться, не заснуть: с каждым разом сон удлиняется, рано-ли-поздно известно в какой перейдёт. Рассказать самому себе что-нибудь, чего, может, и не было, но очень могло бы и быть. Или, может, лучше, чего быть никак не могло, а вот тебе на, случилось, произошло. Посмотрим. Главное ведь начать. Дальше покатится, сочинителя в движение слов вовлекая: не отвертеться. Что из писания такого получится? Черновик жизни, не полностью сочинённой и осмысленной не до конца. Это всё больше его занимало, всё его ржавое время, в котором он болтался беспомощно, всё пространство его, в котором малой частицей пылился. Это его заполняло, что-то напоминая. Стал думать и вспоминать, но, как ни силился, не мог до цели добраться. Пока не осенило. Героя, страстью ужасно похожего на своего сочинителя, неотвратимо тянет игра. Там – игра. Здесь – слова. Главное: тянет неотвратимо. Стал вопросы себе задавать. Автотерапия? Почему бы и нет? Получше, хе-хе, эвтаназии. Спросил, попытавшись это сделать глумливенько: «Что такое зачатие непорочное?» Растянув рот до ушей (так эту гримасу представил) и вытянув руку, словно для благословения (пальцы пошевелились), ответил: «Зачатие через ухо от слова». Здесь следовало бы засмеяться, но сил не хватило (утешаясь, добавил: пока), зато зачесалось ухо, понял, что правое, и это утешило, примета такая, к добру, и в дрёму вполне утешенным провалился. Очнувшись, увидел светящийся контур, подумал: луна, отражающаяся на стекле. Веки с трудом разлепил, что в его положении (трезво решил оценить) было неплохо: наверняка не все больные и не всегда способны из болотного забытья себя за волосы вытянуть. Как же звали этого? Как его звали? Того, себя за волосы вытащившего? Тиль? Нет, этот в яблоко на голове из лука стрелял. Ну как же? Господи, кто подскажет? Прислушался: у кого бы спросить? За занавеской некто то ли постанывал, то ли оригинально сопел, подвизгивая, словно сердясь. Понял: сосед. Прислушался. Иной источник звуков отсутствовал. Он и сосед, более никого, если не считать (решил себя насмешить) водопроводной трубы, исполняющей арию тонко, проникновенно. Так как же болотно-волосатого парня зовут? Много чего весёлого натворил. Летал на ядре, на волке, запряжённом в сани, въезжал в Петербург, до ротмистра в северной стране дослужился, а главное, был в одном лице рассказчиком и героем рассказов, автором своих персонажей и персонажем автора своего. Завидная участь! А скольких малых сих, зудом писательства мучимых, соблазнил! Право, не счесть! Жуть, хтонь, хрень.
Здесь, на вершине горы смерть реальна до отвращения. В ненастье разные ветры, пьяные пьянью множества языков, на перекрёстке бытия случайно скрестившихся, ветры нагло, разнонаправленно и бессмертно бесятся, рвут в клочья сухую трезвую прозу и паруса придуманных кораблей, в давнопрошедшие зыбкие времена занесённых песком близкой пустыни. Нет чтобы один благоприятно попутный, чтобы из обрывков многоязычия сложилось нечто вроде кладбищенской стены, совершенно не видимой. Но как ветер может быть благоприятным, как может знать, куда ему дуть, если безлюдность пустынна: паруса ставить негде и некому, что есть благо неведомо. Беда. Да не только. Ни проза, ни паруса не были оплошностью, напротив – умышленностью автора и героев, находящихся между собой в отношениях строгих и уважительных. А чего иного ожидать от прозы эпохи, которую положительно определить никак невозможно? Под ямбические хоралы добрые ангелы смерти из сада в триумф, от Босха к Брейгелю души, презревшие плоть, в поисках покоя оставившие тела, в мёртвой тишине в бесплотный верх, неприкасаемо прикасаясь, возносили над миром: над горой, пустыней, дорогой. В это время добрые санитары, оставшиеся без презрения, без присмотра, в гробовой тиши в бездушный низ, громоздко взгромоздив, в больничное чрево тела увозили. Оттуда прямой и ясный тоннель вёл в подземное царство, которое живые по-разному называли: евреи – шеол, греки – аид, египтяне – аменти, китайцы – диюй, ёми – японцы, иркалла – шумеры, ацтеки – миктлан, патала – индийцы, а санитары из бинарнейшей оппозиции выбрали самое близкое их материалистичной душе – подвал. Было бы смертельно увлекательно, к названиям этим преподобно припав, проанализировав, их сравнить. Жаль, сделать это у живых времени нет, а у мёртвых – умения и таланта.
Во сне можно обойтись и без плоти, умиротворяюще слившейся с собственной, властно её притянувшей, наполнившей силой и, исчерпав, обессилевшей. Во сне, видениями от одиночества охраняющем, беззащитно можно быть одному. Но засыпать без неё, лицом к лицу или в затылок дыша, тёплые угли потухших слов напоследок собрав, невозможно. Можно лишь, смиряясь, обессиленно под тяжестью усталости в забытьё прогибаться, вмерзая в лёд застывшей реки, текущей вспять, от устья к истоку, словно от праха к рождению, а от рождения к сотворению, туда, где было мшисто, влажно, тепло, где движение зарождалось робко, дрожаще, из-под камней едва пробиваясь. Но только во сне можно обходиться без плоти, которую до слившегося единого дыхания не мять, не ласкать, со своей единя, в веру плоти своей обращая. Только во сне злостное монашество это возможно. Только во сне, в котором весело суетятся викинги и пингвины, которые на обычном, языке общаться не могут, для них особые полнотело плотоядные слова сочинять необходимо.
Приснилось, привиделось, в полусне, в полумраке явилось. Гнусно. Гадко. Глумливо. Его создание, его творение, его текст над своим создателем издевался, как обезумевший от жизненных удач атеист над Творцом, предоставившим ему возможность до поры до времени порезвиться, упиваясь собственной волей. Оба героя, он и она, к которым искренне успел привязаться, да что там, их полюбил, решили сбежать, над ним, создателем, насмеяться, оставив с незаконченным текстом в руках в дураках. Поди догони! Словно золотой ключик от холщовой двери унося, тщательно продуманный финал нагло сперев, неведомо куда уносились. Бежать за ними? Искать? В полицию? В интерпол? Глупо. Не глупей, однако, чем, сложа руки, сидеть, следя за Сизифом, в обнимку с камнем в гору идущим, или за Магометом, бредущим к заветной горе, сидеть, ожидая, когда после дождичка непременно в четверг (говорят, уточняя: оранжевый) уже красно сваренный рак свистнет призывно, противно, протяжно, соловью-разбойнику, в муромских лесах затерявшемуся, бессовестно подражая. Хоть бы ноту малую, негодяй, изменил! Может, герои его, под мелкие разговорчики и ухмылочки гнусные от общественно значимых тем в муромские заветные и сбежали? Если так, кто там будет ловить? Полиция? Интерпол? Насмешили. И чего им, предателям, не хватало? Внимания автора? Это с избытком! Интереса? Кому, кроме него, они были нужны! Кто их познакомил? Сказать грубей: свёл? Любви недоставало? На что в этом деле им автор? Любите друг друга вечно и самозабвенно. Кто слово скажет? А если скажет, то доброе, плодитесь, мол, размножайтесь, по слову Творца пространство-время и страницы вашего автора собой наполняя, смерть постигая, как все, ничего до конца жизни понять не сумев. Наверняка всё она! Тянула его за собой из определённости в туманность, из вольготной вольности отношений, которые могут в любое время прерваться, в привязанность к определённым словам, строгости времени, ко всему, что было ей очень привычно, а ему неожиданно. Тянула за собой, а он, оказав не слишком сильное, что самого удивило, сопротивление, стал поддаваться. Не только за собой – тянула в себя настойчиво, неотвратимо. Потребовалось время, чтобы, найдя слова, осознать. Познавая её, себя познавал. Великий повествователь одним словом сказал. Не разбрасывался словами. Неосторожными и двусмысленными тем более. Говорил и граду, и миру. Несовершеннолетние тоже услышат. Познал – и познал. Где? Когда? При каких обстоятельствах? Имеющий воображение прекрасно домыслит. Имя публично домысливающих – легион со стороны познающего, а познаваемой – за терминологию извиняясь – немного. Она потянула – приходится думать, как, познающего отодвинув, найти слова для неё, помня: приличествующее Великому повествователю обычному не по чину. Главное: только нужные, исключительно необходимые, единственно верные. А те застревали, друг с другом не связывались. Адамовы слова, охотно подчиняясь знакомому ритму, не пускали те, что рядом с ними, однако чужие, которые, таковыми себя не считая, не могли выползти из-под огромной словесной груды, каменно пригвоздившей, из себя не выпускавшей. Бился, мучился, результат нулевой. Придумал даже к ней обратиться, сама пусть напишет, за то, что создал, хоть какая отдача, плата невелика. Мысль бредовая, опомнился, стёр: ложь, глупость, невнятица. Пусть останется тайной. В конце концов, столько писательниц развелось (зачёркнуто, вписано: появилось), пусть сами с этим управятся. И можно будет списать, слегка перевирая, чтобы за руку не схватили. Если Флобер вместе с мадам Бовари отравился, то почему бы… Вообще-то, многоточий он не любил. Но и договаривать всё – тон, прямо скажем, не слишком. Наша жизнь не только игра, но и тягостный компромисс. Между новым сюжетом и старым, изжившим себя, исчерпавшим. Только между жизнью и смертью компромисс невозможен. А жаль. Немного пожить, устав, набегавшись, смертью смерть поправ, отдохнуть. Надоело – опять. Наскучило – снова. Можно по графику, по календарю. Как рабочий день, как неделя рабочая, раз-два в год отпуск положен.
Царь зверей – лев, король птичий – орёл, царевна – лягушка, а вне иерархий всяческих змий, сказать бы про него хитрожопый, только, хоть смейся, хоть плачь, но жопы, как назло, не имеется. Сказать по правде, или, как молодые говорят, по чесноку, Адам был весьма и весьма простоват. Собственно, никто от него ничего такого особенного и не требовал. Поименовал зверей, как легло на душу, вот и ладно. Поставили беречь и охранять. Бережёт, охраняет. Для кого бережёт? От кого охраняет? Вопросы вообще, тем более такие, совсем не любил. И задавать было некому. Бывало, сам себе задаст, но тут же: на кой тебе это, Адам? И, чтобы вопрос где-нибудь в голове не застрял, вскользь сам себе отвечает: ни на кой, и за речью следит, чтобы вопросительная интонация контрабандно не просочилась. Понятие «хороший вопрос», надо признать, было ему недоступно. Оксюморон какой-то, не будь к ночи помянут. Так и живёт: день-и-ночь – сутки прочь, назавтра нечего вспомнить. Сегодня то же, что было вчера, что будет завтра. Температура комфортная, питание сбалансированное, солнце светит, желтеет луна, звёзды блестят, не падая, чтоб не расстраивать, соблазняя желание загадать. Облака кучевые, дождь тёплый, ласковый, отнюдь не проливной, безутешный, день-деньской без перерыва. Фауна спокойная. Флора не ядовитая, даже напротив. Пресмыкающиеся пресмыкаются, водоплавающие по воде плавают. Млекопитающие млеком питают. Лад. Порядок. Идиллия. И вдруг. Гром среди ясного неба. Словно дьявол, в деталях скрывавшийся, выполз и зубами заскрежетал. Стало скучно Адаму. То ли погода стала меняться. То ли возраст: время, пусть ещё не бежало, однако, медленно, неспешно текло. Маяться стал, грустить без причины, созерцать надоело. Стал искать приключений на свою, скажем так, голову. Не находит. Да и где приключений искать? А главное – с кем? Проклятые вопросы: быть – с кем ему быть, не быть – с кем не быть, что не менее важно. А змей шуршит чешуёй, злобно, коварно нашёптывает, напутствуя непутёвого: у судьбы множество знаков движения по дорогам случившегося бытия, пустые вёдра и чёрных кошек включая. Внимай – и живи спокойно, радостно и безбедно. Так нет же. Ищущий на свою голову приключения найдёт обязательно. То верит змею Адам, то сомневается. Рефлектирующий Адам получился. Стала заедать его маята. Аппетит пропал. День – лежит, смотрит в небо, ночью не спится – звёзды считает. Апатия. Бессонница. Тут бы всполошиться. Да некому. Как-то умаявшись от маяты, просыпается, то ли ребро, то ли ниже болит: красавица – откуда ни возьмись – нежно щебечет, певчих птиц заглушая. Мать честная, откуда? На вопрос отвечает, пальчиком показывая, бровь вскинув, черноглазо подмигивает. Всё. И покой, и маята, как дуновение, отлетели. Пошла жизнь развесёлая, вопросительно-говорливая. И слов столько не знал, а чтоб вымолвить, что за минуту произносила, и дня не хватало. Болит там, где в памятное утро болело, – словом ласковым уврачует. Болят зубы – заговорит. Дар Божий! Целительница! – Как жил без меня? – Разве то была жизнь? Так повелось: вопрос на вопросе, вопросом вопрос погоняет. Ответы? Ни он, ни она не нуждались. Им бы иначе: вопросы задавать по ответам. Наверняка удачней бы выходило. Увы, не додумались. Хотя проще пареной репы, которую никто из них никогда не едал. Гласных в их именах куда больше согласных. Певучие имена. Сладкозвучные! Однако, увы да ах, всё хорошее имеет предел. Плохое же бесконечно. О хорошем – с дорогою душой. О плохом – совершенно не хочется. Потому для завершённости телеграфно. Выполз. Veni, vidi, vici. Поели. Что там, яблоко, инжир или что-то ещё, совершенно неважно. Прозрели. Засмотрелись. Пошли изгнанные, за руки взявшись, пошли искушенные, змея-искусителя с собой захватив: встречных-поперечных с его помощью искушать и, конечно, друг друга. Папарацци щёлкали самозабвенно. Художники-примитивисты по холстам краски буйно разбрызгивали. Ангел смерти поджидал их, приглядывался. А потом долго-долго, что бы кто ни говорил, прекрасно настойчиво друг друга любили. Как это сказано? Нет повести счастливее/печальнее на свете. Из этой песни ненужное слово каждый волен убрать, вместо нелепой недоговорённости имена нужные вставить. И искать, торить путь назад, всю оставшуюся вечность пытаясь вернуться. Получается, рай – место, которое можно лишь потерять, а найти невозможно. Хоть бы кто на музыку это всё положил: голоса певчих птиц, шелест шёлковых трав, щебетанье красавицы. Ни оперы, ни балета, никакой, даже малой безделицы музыкальной.
«Я не асоциален, – себе самому говорил о себе, – мало социален я, разница очевидна». Ну да, ну да – согласно кивали изнутри никакого отличия на дух не видевшие. Не знал, как это в жизни его произошло, но знал: произошло, и от этого деться никуда невозможно. Было скверно. Иначе и быть не могло. Время, раньше исчислявшееся женщинами, теперь текстами измерялось. С женщиной можно расстаться, от неё можно уйти, убежать, но что делать с текстами? Течение слов влечёт, в водоворотах кружит-кружит дьявольски, пока не утопит. И всё время надежда: вдруг во мраке просвет, вспышка – и яростное свечение. И продолжаешь писать черновик сложившейся жизни (= совершаешь попытку состоявшейся жизни), исход которой всегда, по слову поэта, летальный. Пишешь-пишешь, вспоминаешь-сочиняешь – и бац: ни былого, ни дум, это уже по прозаику, а ручка чернилами переполнена, лист белоснежностью соблазняет. Короче, понятно. Тогда события, нужные важные слова пробуждающие, себя ждать ещё как заставляли. Видно, по дороге застряли: пробки ужасные. Слова, при нём задержавшиеся с прежнего времени, разбегались, и не было сил за ними гоняться. Некоторые позабылись. И знаешь, что было точное, в самый раз, отмеряно тщательно – наказание: вспомнить не можешь. За что наказание? Преступления не совершал. Кто это знает. Раз не бывает безгрешных, это, почитай, аксиома, значит, всегда есть за что. То, что писалось, не нравилось. А то, что нравилось, соответственно, не писалось. Всё в мире чему-нибудь обязательно соответствует. Не зеркально, конечно. Дополняя? Отрицая? Или же разрушая? Как-нибудь соответствует. Мужчина – женщина. Горы – пустыня. Жизнь – смерть. И далее до бесконечности, до совершенной исчерпанности лексики, которая по мерке одного человека неисчерпаема. Вот и довольно. Не стоит слишком настырно копаться, кто знает до чего докопаешься. Прибавляется год от году песок в пустыне или, напротив, в пустыне год от году песок убавляется? Уточним: не золотой пляжный песок, а пустынный желтовато-коричневый. Как это узнать? У кого спросить? С кем посоветоваться? Главное – на вопрос не наткнуться: а зачем это знать, это к чему? Как ответишь, что просто так, хочется знать, вот и всё, а не зачем и к чему. Ни к чему! Заорёшь благим матом, подумают: идиот, к тому же орущий, ну его к чёрту! Пошлют – смиренно пойдёшь, размышляя: может действительно чёрту про песок пустынный известно? Что с того, что он чёрт? Мало ли, с кем не бывает. Виноват, что родился с хвостом и рогами? В конце концов, рога можно спилить, хвост обрезать, а на копыта башмаки нацепить. Если что ещё нужно поправить, так пластических хирургов видимо-невидимо: и нос, и губы, и, вообще, всё, что желаете. Даже говорят, и прочие достоинства, если не до желанности, то по возможности увеличивают. Но всё это дичь, муть, чепуха, главное, знает ли о песке космато-рогатый, или ложь, выдумка, чепуха на масле подсолнечном, кукурузном или ещё каком, что не существенно, как говорится, не суть. Песок – это суть, точней, песочная динамика, всё остальное – глупое, наносное. Ведь если песка становится больше, то пустыня, безгласая и безглазая, непременно будет искать, куда ей расшириться. Если динамика обратная, то деться некуда – придётся сжиматься. Отсюда насущные выводы: как поступать человечеству? А вы про чёрта всякие парнокопытные сказки плетёте. Нам бы ваши заботы, парадоксы, парафразы да пароксизмы. Что, что? Если одни готовят из винограда вино, другие – из одуванчиков, то почему бы из даров пустыни, репейника и чертополоха, как-нибудь не изловчиться? Ну вы даёте! С ума что ли сошли, пообщавшись с чертями?!
Сам виноват: привык, пристрастился, подсел. Даже на ответное движение души понадеялся. Это когда он и она (не в том смысле, что сатана, а в прямом, ужасно обычном) тенями меняются. Понадеялся, позабыв, чем кончился вполне расчётливый брак первого поэта и первой красавицы: никакой поэтический жар ледяную плоть не в состоянии возбудить. Ну да ладно, может, теперь всё иначе. Посмотрим. Выбора нет. Судьба. Не поспоришь. Запах чуть-чуть разгорячённого тела. Звуки слов негромких, небесполезных. Кожи, банально говоря, шелковистость, а не банально: никак не назвать. Видишь: и лицом к лицу, и всю целиком, и издали – лицо различаешь. Сам виноват: давно словами её говоришь, её мыслями мыслишь, её дрожью дрожишь, ей холодно – холодно и тебе. Вот-вот, обычное женское начнёшь ощущать, только, в отличие от неё, никогда не привыкнешь. Разве что, измучившись, поторопишься точку поставить, до конца, толком и не придумав, поспешишь дописать. Над срезанной плоской вершиной горы, будто на гротескно огромном подносе, приземисто мощно возвышаются здания больничного комплекса. Подъезжая, голову поднимаешь и видишь вертолёт, раздражённо воздух расшвыривающий, все иные шумы заглушающий, над башней кружащийся, намеревающийся в точно очерченный круг угодить, заставляя, спросоня моргающего ангела смерти вскочить, нисколько о его заслуженном отдыхе не заботясь. А может, он – существо одинокое. Ни жены, ни возлюбленной, ни родителей, лишь редкие контакты с начальником и коллегами. Молчалив. С душами, ошарашенными расставанием с телом, не пообщаешься. А когда, воздух на мелкие куски разрывая, бесчинствует вертолёт, словно бес в ангела смерти вселяется, превращая его в неадекватно крайне нервное существо. В отличие от обычных, ангелы смерти одеты совершенно цивильно. Без всякой торжественности, выспренность им ни к чему, разве что сорочки всегда свеже безукоризненно белые. Одеты без современной разнузданности. Так сказать, неподчёркнуто. Что и понятно, никаких глупостей, вроде кем-то когда-то зачем-то придуманных крыльев, которых и у обычных ангелов живьём не видели никогда. Летать ангелам смерти вовсе не надо, а возноситься и без крыльев прекрасно умеют. Представьте: летит ангел смерти, размах крыльев, почитай, самолётный. Ложь, модернизм, чепуха. Плюнуть в глаза сочинителю и растереть, побольней подошвой мелкому гадёнышу их выдавливая из орбит. Служить при больнице вовсе не сахар, особенно ночные дежурства: страшно длинны и утомительны. Физически работа очень нелёгкая: козлоного двигаться день-деньской, на самый верх тяжеленые разноцветные души таскать. Казалось бы, не видима работа, не слышима, не осязаема, закон гравитации не про неё, а тяжела мучительно, непредставимо. По-разному, ох, как по-разному в момент отъединения от привычного убежища – тёплого тела, ведут себя души. Всем им холодно жестоко, неимоверно. Сжимаются, корчатся, бьются судорожно, трясутся, словно эпилептик в конвульсиях. Вспыхивают мгновенно, солнечно ярко и затухают, светясь откуда-то из глубины неярко, густосапфирово. Но шок мгновенен – одни смиряются, сами в себя, словно сдувшиеся шарики, опадают, другие неуспокоенно в ежовых ангельских рукавицах трепетать продолжают, словно ребёнок, всхлипывающий после рыданий, долго не могущий успокоиться, бьются, крепко вцепившись во взгляд, некогда их пронзивший. А бывает! Случись аврал, общий слёт объявляют. Но пока слетятся, рабочих рук не хватает. Души со всей врождённой брутальностью и жестокостью суетятся необихоженно, неприкаянно. Во все стороны скачут, словно кузнечики из-под подошв. Люди, головы теряя, бегут, на ходу, скрючившись, их поднимая. Сколько глупостей про ангела смерти написано, наговорено. Хорошо, только глупости. Но лжи, намеренной лжи, гнусного вранья – огромные горы. Само название! Ангел смерти! Несусветно звенящая глупость, ложь первостатейная! Правильно? Ангел души милосердный. Не задумываясь – людям это свойственно чрезвычайно – говорят: душа отлетела. Ложь. Глупость. Какое! Где это видано, где слыхано это?! Отлетела?! Так взяла себе и отлетела? Душа отлететь не способна. В муках от тела она отделяется, словно младенец от матери. Попробуй сам без посторонней помощи младенец родиться. Так и душа. И ангел души милосердный ей помогает родиться, он её, новорождённую, от тела новопреставленного отнимает, помогает отделиться, расстаться, к себе прижимая, в себя принимая, смоляным факелом во тьме путь освещая, возносит. Куда? И от ангела это сокрыто. Ему ведомо то, что дано ему ведать, не боле. Он душу не видит, не слышит, но ощущает: отделившись от тела, она к ангелу пристала, лучше сказать, прилепилась, вот и почувствовал. И – скорей, как можно мгновенней наверх, туда, где трепещущая, как рыба, вытащенная из воды, от него отделится, вечный покой обретая. Бывало, по пути наверх мгновенному, но всё же имеющему некое протяжение, вдруг забьётся, обратно запросится. Что делать? У самого сердце колотится, той же рыбой трепещет. Да что там. Разве объяснишь. Разве расскажешь. А объяснишь-расскажешь – разве поймут. Им бы только глупых слов навалить, да лжи пудами немереными. Конечно, встречаются и спокойные души, осуществлённостью своих желаний земных раздавленные, ощущение: будто плоские. Но таких немного, всё больше объёмные, невыносимо трепещущие. Одним словом, ангел душу клиента возносит, выразимся туманно, в постжизненное пространство. После модернизма что следует? Оно и понятно. А в пространстве жизненном? Там душка Психея под апулеевским зорким надзором за Амуром охотится, она за ним, он от неё, отношения души с ангелом милосердия репетируя, иной скажет, что пародируя. Или что-то вроде того. Всмотритесь, вдумайтесь, сами решайте. Вот так вот. Это вам не прыгающей саксафонской походкой по сцене расхаживать и не богословские трактаты кропать, с бороды крошки разнообразных познаний неряшливо не отряхивая. Воистину: вначале было не чумазое слово, чистое дело было вначале, глядя на которое нельзя не воскликнуть: продлись мгновенье, и дальше по прежнему тексту о душе, проданной дорого или дёшево, как посмотреть, и о мёртвых душах, ради которых приходится по скверным дорогам трястись, имея дело с бесчисленными дураками. Ничего не поделаешь, такое бесчинство описывая, приходится в воздухе обнажённо дирижёрской палочкой пентаграммы чертить и язык через колено ломать, иначе ведь не получится в этом слишком фаустианском мире, по недоброй традиции построенном на болоте.
Вертолёт – был порывистый ветер – долго, прицеливаясь, кружил, вызывая, как это в фильмах бывает, тревогу, у которой были очень веские основания. Попадёт – не попадёт? Кто там внутри? Что с ним, с тем, кто внутри? Ангелу смерти это известно. Но как спросишь, до времени ангел совершенно незрим, и мало кто торопится этого вечно заспанного бедолагу увидеть. Кто знает, что творится в душе несчастного парня, призванного на службу, тщательно отобранного в соответствии с чётко прописанными параметрами, пунктуально обученного и поставленного перед выбором: сказать «да» и начать служить, согласно протоколу соблюдая обязанности, или, не сказав ничего, начать служить, согласно протоколу соблюдая обязанности. Точно известно лишь, что музыка души ангела смерти ужасно дисгармонична, хорошо, что не слышит никто. Её отзвуки, которые в материальный мир прорываются (для того и тогда, когда кто услышит), совсем неразборчивы, жесты его (для того и тогда, когда кто увидит) невыразительны. Аромат… Помянут будет, по крайней мере, не к ночи. Она подъезжает, не зная, что её полковник, ни в больнице, ни в чём другом, кроме доброй памяти, не нуждающийся, там, на борту. Его пространство скукожилось до нуля. Его время, как и кровь, истекло. Она не знает и никогда этого не узнает. Не обязан автор, третьим лицом от себя отстраняющийся (защищающийся, скажет иной), любым знанием с героем делиться. Между ним и персонажем должна быть дистанция. Непременно, как между молодым учителем и ученицей последнего класса. Что с того, что выпускного. Впустить – выпустить: игра слов, не суть, чепуха. А суть? Учитель – ученица: дистанция. Во избежание. Кривотолков. Хотя бы таких: текст – суррогат жизни, или жизнь – суррогат текста? Дети, кто знает? Кто хочет ответить? А вы, господа? Вам интересна жизнь, а не текст. Автор, а не герой. Это вы зря. Во-первых, не бывает одного без другого. А во-вторых, похоже, вы сами претендуете на представительство в тексте. Но читатель, далёкий и неизвестный, не может быть автору интересен. Читатель – герой? Редко встречается. Почти никогда. Шансы ничтожны. Короче, оставьте. А вот уши автора, как ни крути, из текста звонко торчат. Но что уши! Заяц тоже ушастый. Так что, повторимся, оставьте! Тем более что автору необходимо сосредоточиться совсем на другом. Звонить ей бесполезно. У неё включён только рабочий, этот номер даже автору знать ни к чему. Попытался представить. Не смог. Сам виноват. По своему обыкновению портретов он не писал. Греческий нос, испанские жгучие кудри, бедра французский изгиб? В лучшем случае штришок-другой, кто хочет, пусть об остальном догадается. А если не получится, как сейчас у него? Тогда пусть представит кого-то. Попробовал – ни одна из его прошлых женщин не подходила. Пытался комбинировать, у великого не вышло, у него и подавно. Может, попробовать глазами её пациентов? Но что он о них знает? Даже о тех, о ком слышал. А были у неё любопытные. Как тот настоятель монастыря, францисканец, за которым шлейфом из ранней юности тянулась романтическая история. Одноклассница-любовь. Друг-одноклассник. Оба влюблены. Она выбирает. Выбрать не может. Кто-то что-то сказал. Под горячую руку. Не вовремя. Но слово произнесено. Очень увёртливо многозначное. Но из контекста не вырваться. Он друга и любовь покидает. Те уходят в море на яхте, о штормовом предупреждении в горячке любви не услышав. Шторм. Тела долго искали. Терзания. Монастырь. Ряса, белым шнуром подпоясанная. Сандалии на босу ногу. Настоятеля привезли: очень ослаб. Поставила диагноз. Помогли лекарства или монахи усердно молились? Или то и другое подействовало? Стал поправляться. Какой он видел её? Доктором-спасительницей? Или всё-таки женщиной? Поди пойми, как это у монахов бывает. Он в этом монастыре бывал и не раз. Стены храма – впервые видел такое – облицованы голубым по белому изразцами. Она – нет, не видала, хотя монастырь – постоянно из окна кабинета: взгляд сверху вниз, или из дому: снизу вверх. Монастырь вьётся по ту сторону хрупкой реальности, которая выпала ей (или была выбрана ею), по склону той же горы, на вершине которой больничный замок, куда волен каждый попасть, из которого, пройдя лабиринтами, волен выйти не каждый. Снизу вверх вьётся или спускается сверху вниз. Как посмотреть, как к развилке разнообразных реальностей отнестись. Нет никакого мерила, и самому не понять, где находишься: на вершине жизни или в самом низу, в самом дальнем углу оркестровой ямы сидишь, всего пару раз за всю симфонию, правда, громко бренчишь, или движением рук звуковые волны во все стороны и в небеса гордо вздымаешь, розные звуки в единую музыку единя. Большинство её пациентов с действительностью (= здесь и сейчас) было в отношениях совсем не простых: то покидали её, то возвращались, то бродили рядом окольными тропами, то совсем оставляли, одни с жалостью, другие на удивление равнодушно, третьи с нескрываемым отвращением. Как бы ни было, почти всю свою жизнь в ней провели; тихий, мирный развод всегда предпочтительней. Её, бывший профессорский, кабинет на самом высоком этаже немалоэтажной больницы. Та – на вершине горы, из окрестных самой высокой. Много чего из её окна можно увидеть: дома, людей, автомобили, беды и радости большие и маленькие. Но она этого вовсе не видит. В окно почти что не смотрит, тем более вниз. Такая связь следствий-причин. Интересно, профессор вниз часто смотрел? А если смотрел, всматривался внимательно, пристально? А если всматривался… Никто этого никогда не узнает. Спросите, зачем это знать. Что поделать, ответить на этот вопрос невозможно. Как и на тот, почему невысокого росточка профессор так любил баскетбол, что живьём и по телевизору восторженно им упивался едва ли не ежедневно, а любимым его занятием было, скомкав бумагу, точно в мусорную корзину забросить. Скажете комплекс? Механизм компенсации? Может, и так, но и это неважно. Хоть поправляется настоятель, но слабый ещё, может, её черты в глазах его расплываются. При нём постоянно молодые монахи по очереди. Они какой её видят? Попытаться сосредоточиться и представить. Не получилось. Ни настоятелем, ни молодым монахом быть не привелось. Представить ими себя фантазии недостало. А жаль, помогло бы. Когда, хоть и нечасто, видел в её глазах отрешённость, уходила в себя, застывала, словно ожидая чего-то. Однажды понял, в эти минуты вся в ожидании: вот-вот её полковник придёт, из той ночи, в которую ушёл, возвратится. Полковник, щадя, не приходил, ведь если придёт, кого она будет ждать? Он, её писатель, здесь и сейчас, его ждать не надо. А ждать необходимо, ведь знает, что Одиссею мало Итаки и сына, ему для возвращения нужна ждущая Пенелопа. Кстати, глаза. Какие глаза? Какими её наделить? Серыми, зелёными, голубыми? Так ли уж важно? Наделить, подробно-подробно их описать, чтоб не забыть. К чему, когда можно, когда угодно, взглянуть и в правильности выбора в который раз убедиться? Он любил слушать её рассказы. И было о чём. Конечно, больше всего хотелось хоть что-то услышать о службе полковника. Понимая это, и рассказала, как однажды не выдержав, спросила полковника. «Поговорим через пятьдесят лет», – ответ был очень короток и очень понятен. Ежедневно ей приходилось общаться с десятками людей: врачами, медсёстрами, больными и их роднёй. Была наблюдательна. В таком отделении врачи наблюдательными быть просто обязаны. Антидепрессанты не всегда и не всем помогают. Слова, правда, тоже, но надо пробовать: хуже не будет. Когда была неразговорчива, прибегал к разным уловкам. Замечала, но что с писателя взять? Он тоже по большей части был молчалив. О чём ему рассказывать ей?! О том, как описывает её? Попросить совет, как подправить портрет, чтобы вышло похоже, но не жестокая копия. Когда-то упражнялся в чёрно-белом фотографическом стиле. Не понравилось. Не пошло. Хотя некоторые на этом заработали славу, которую – времена изменились – теперь доедали. Попросить позволить порыться в сумочке, как некогда делал знаменитый писатель, даже денежку за позволение дамам давал. Если придумает в неё нечто необычное положить, тогда и попросит, и выпотрошит, а просто так, для чего? Ни пистолет, ни ампулу с ядом он в её сумочке найти не намерен. В тёплые дни под не беспокойно приятную музыку сидели они на балконе, пили коктейль и пустыней угощались слегка близоруко. Но кто в наше время, не успев постареть, дальнозорок? Пустыня только на первый не заинтересованный взгляд безжизненно однообразна. На самом деле она судорожно волниста, там кипит жизнь, особенно по ночам, а цвета не пестротой, конечно, но оттенков бесчисленностью поражают. Пустыня, понятно, караваны, верблюды. Что ещё? Что важней самого главного? Отшельники, аскеты, пустынники, молитвы, акриды. Пытался ей своё пустынное вдохновение передать, как правило, не слишком успешно. Привыкла к событийности бытия. Чем больница полна? В ней ведь что-то, пусть даже мелкое, постоянно случается, и каждый причастный носит случившееся с собой или в себе, ощущая, будто хлюпающую воду в обуви, не выдержавшей напора дождя. Это, как и многое другое, она лучше его понимала. И он это вполне понимал, но как-то не сам по себе, через неё. Давно открыл: его понимание – через кого-то. Хочешь понять – напиши, если сложатся отношения, если не обидишь – поделится. Человеку всем на свете присуще делиться: животное социальное. Знанием, любовью, ненавистью, даже мыслишками, тайными, грязноватенькими, только не спугни его. Не спугни! А то в норку – юрк. Поди вытащи. Не выманишь, разве что выкуришь. Для чего? Чтобы с три короба. На кой короба мыслей чужих и вожделений, судьбой в грязь затоптанных? В норы чужие влезать бессмысленно. Как и всюду, что за рамками текста, где может быть всё, что угодно читателю, над чем автор не властен. Попробуй того обмани! Захочет Верону – будет Верона. Пожелал век просвещения и королей – без проблем. А пока необходимо собраться с мыслями. Сосредоточиться. Внятное слово найти. Пока она говорит, внимательно слушать. Перемелется в слова – испечёшь колобок, покатится – не догонишь.
В одно не прекрасное, совсем обычное утро при входе в отделение одна из сестёр ей шепнула: «Он там». Что означало: невысокий лысый человек дожидается у кабинета. Муж пациентки, которую в коме привезли к ним назад тому несколько месяцев. Кома – темна вода во облацех – то ли мёртв человек, а мир вокруг него жив, то ли мир мёртв, а он вопреки всему жив. Должна была давно умереть, но чёрных чужих ожиданий не желала оправдывать. Такое очень редко бывало. Но такой муж попался впервые. Он сидел рядом с кроватью день за днём неотлучно и говорил, говорил, веря, что она его слышит и понимает, только – проклятая болезнь – ответить не может. Его подкармливали. Бывало, на пару часов исчезал, а, вернувшись, ещё с порога начинал рассказывать, какая погода и, вообще, что происходит. Иногда кого-то с собой приводил. Под гитару ей пели песни, и он, как мог, подпевал. Молились, и он с пришедшими тоже молился. Время от времени приходил, как говорил, посоветоваться. Конечно, он полностью доверяет и этой больнице, и этому отделению, и лично ей, спасибо за всё, однако он слышал (откуда информация, не уточнялось), что там-то (называлась страна, город, нечто всегда экзотическое) даже мёртвых на ноги поднимают. Похоже, понимал идиому буквально. Так вот, просит ему посоветовать, стоит ли это попробовать, и не может ли она помочь с той больницей связаться и организовать самолёт, санитарный понятно, чтобы перевезти его жену туда, где спасут, спасут обязательно. От этого в очередной раз предстояло ей отбиваться, стараясь, не дай Бог, ничем, ни словом, ни жестом, ни движением бровей этого чуткого и преданного полусумасшедшего не задеть. Он слушал её рассказы о людях, блуждавших в собственном настоящем и в собственных воспоминаниях, как в лесу. Не в трёх соснах блуждание! Рыскали во времени не только своём, но и в эпохи чужие, словно шпана за яблоками в сад, залезали. Что их в чужое время влекло? Не в ближнее – в совершенно чужие столетия забирались! Фанатики – это понятно. Христиане – во время Христа. Мусульмане – во время Мухаммеда. Один в покер у Понтия Пилата жизнь Христа отыграл. Другой с Мухаммедом пил на брудершафт. Но остальные? На что им время чужое? Дома почему не сидится? Скитаются по векам блудные сыновья, отцы умерли, возвращения не дождавшись. Ему некуда возвращаться. И ничьего возвращения не дождаться. Ни в одном, ни в другом образе не позировать ни Рембрандту, ни иному кому. И спасение Христа, и рюмка-другая с пророком на кону не стоят. Пусто. Вот и она замолчала. Кто же будет, когда не будет её? Давай, рассказывай, говори! Расскажи о том парне, у которого было всё на ходу, идея мелкая, а деньги большие, и – упс! – всё вверх тормашками, за месяц сгорел, в памяти не успел даже порыскать, порыться. Расскажи, и я за твой рассказ, как за канат, уцепившись, то ли вверх, на шест, то ли вниз, в подземелье полезу, прямо в душу твою, всё высмотрю хорошенько, вылезу и в слова обращу. Иначе как тебя написать, от твоего имени слова произносить? Я что был врачом? Я что женщиной был? Откуда мне всё это знать? Пусть доктор-женщина сама о себе и напишет?! Дудки, в том-то и дело, что доктором-женщиной она быть способна, а написать не сумеет. Потому приходится ему, чтобы она, умерев, не пропала. Перечитал и задумался: оставить? Вычеркнуть? Решил: пусть пока остаётся. Ведь если удастся из этой женщины вытянуть тайну – разве женщины бывают без тайн? – то только тому настырному из монолога. Но если тайна, то захватывающая, нет, ошарашивающая, а не такая, о которой догадался читатель страниц двести назад. Ход беспроигрышный, равный тому, чтобы нажимать на дамские слёзные железы. К тому же ловко в нужный момент в прозу жарено всунуть газетку. Всем и каждому подробности скандала ох как интересны, жизненно, сказать можно, важны. Но кому это нужно? Какие тайны в наши не мутные менуэтно-сонетные, но прозрачные квирно-вампирные времена? Движение долларов, движение мыслей, у кого они есть, – всё на виду. На каждом углу камеры следят передвижение тел материальных и иллюзорных. Какая готика, когда все призраки на учёте у рилейтеров и полиции. Ни убийств, ни прелюбодеяний, ни бастардов живучих, ни бастардок прекрасных. Что скрывать, когда позволено всё? Тяжело приходится любителям жареным с пылу с жару полакомиться. Гора, верхушку которой срезав и навершие выровняв, возникла больница, невесомой громадой парящая над ней и мощным фундаментом в неё уходящая, гора эта была самой высокой в округе, что означало: в прошлом, отдалённом или не очень, от точки отсчёта зависит, здесь росла роща кумирных деревьев, которым тогдашние больные и здоровые поклонялись, их всячески украшали, кровью жертв окропляли, дымом жареного мяса окуривали, вино к корням возливали. В принципе все горы созданы для разнообразной – от места и времени это зависит – сакральности. Почему эта должна быть исключением? Сидя в кумирной тени в жаркие летние дни, жадно жирное мясо жертв пожирали, сосуды с вином опустошали, вокруг деревьев плясали, ритуальные песни орали, и, придя в исступление, одежды срывали и друг у друга на виду совокуплялись, в клубок единый сплетаясь, по земле в экстазе катаясь, всё с целью единой – заранее, превентивно расположение божеств заслужить, а то грянет голод или война, или нашествие саранчи, или мор приключится, чтобы было куда идти, к кому за помощью обратиться. Саму память об этом весёлом радении вместе с рощей срыли безжалостно: два экскаватора неделю-другую на верхушке горы плясали-елозили, и – нет ничего, и больше не будет. Нет слов, больница нужна, но порой так накатывает: мясо, вино, радение и клубок, что нет мочи сдержаться, и кричат больные, потерявшие связь с одной реальностью и с другой не установившие, кричат, не медсестру призывая – жреца: приди, исцели, веру верни. Придёт к одному – вся больница заорёт и запляшет. Представляете, какова будет потеха! Выжрут весь спирт медицинский, всё мясо сожрут. Чем наутро протирать – протокол исполнять, чем кормить, неврозы и фобии, тоску и пыль окраин городских, от времени отчуждённых, превозмогая? Наверное, там и тогда и брачные ритуалы вершились. Что брачных ритуалов возвышенней и прекрасней? Ничего, кроме брачного ритуала другого. Что может доставить удовольствие большее, чем за ним наблюдать? Лишь одно: в нём участвовать, одновременно умудряясь видеть со стороны. Ну, а цель? Невозможно не согласиться: цель ничто, движение – всё. Конечно, и скатываться с горы, тоже надо уметь. Получается, момент достижения цели для наблюдателя омерзителен, а для участника, обессилевшего от созидания красоты, лишь вспышка-мгновение. Такая, извините, эстетика получается. Впрочем, не лучше той языческой, адепты которой не маски звериные на лица натягивают, но часы: внутри тикает, снаружи стрелки по кругу носятся, как угорелые, выбежавшие из избы в чём мать родила, от угара спасаясь. Выбежали, воздух поглубже вдохнули, и нет, чтобы юбки-штаны натянуть, угоревшие сраму не имут, циферблаты на лица, и носятся вокруг изб, Хроноса, сына Хаоса, бога своего прославляя. Не понять, то ли за то, что спаслись, то ли за то, что угорели.
На удивление не очень-то изумился, получив это письмо, не только несуразностью, самим фактом своего появления поразившее. Автор представлялся долго и обстоятельно, будто это имело значение. Из дикой запутанности выяснялось: автор – муж его бывшей подруги, которую описывал очень подробно, не слишком надеясь, что он её помнит. Прав был совершенно: он долго колебался между двумя смежными по времени кандидатками, но так и не решил окончательно, которая из них стала женой из письма. Кажется, та, которую в кресле настигнул. Медленное томительное раздевание, долгая сладостная – Римский-Корсаков – прелюдия в число его добродетелей не входили. Настиг, лишь в заветных местах с истины покровы сорвав, с места в карьер, распугивая пыль по углам, могучим галопом неуправляемо понеслись в кресле по комнате, сшибая мебель, негнущимися кресельными лапами раздирая паркет, сексуальные возможности проверяя на прочность, недюжинные жизненные силы, к удивлению, обнаруживая в лихой фаллической скачке, полноправно на бессмертие претендующей. Такое можно учудить исключительно по наитию. Попробуй, задумав, к такой любви подготовиться! Тогда прошло не слишком замеченным. Зато сейчас, вспоминая, следовало бы в дуду дудеть, в трубу трубить, в барабаны неистово барабанить. Так долго мучился, вспоминая, что на суть письма (не говоря об ответе) сил не осталось. А суть была в том, что автор предлагал оригинальный сюжет, придуманный им вместе с женой, бывшей подругою адресата. Имя на обложке и гонорар их не волновали. Заканчивалось письмо замечанием, что автор письма и сам бы мог роман сочинить, но по недостатку времени (занимал значительный государственный пост, так в оригинале) вынужден переложить эту обязанность на него. Подобных писем ещё не получал, оно стало началом и украшением коллекции абсурдов, которую, как окажется, собирать будет всю жизнь, долгую или короткую, счастливую или не очень, какая достанется.
Выбор будничной одежды не напрягал. До кабинета, там в белое; нарядами больных не смущала. Входя в палату, взгляды больных на себе ощущала: одни скользили легко, невесомо, бессильно, другие остро и больно её протыкали, третьи, угасающе не долетая, бабочками в воздухе трепетали, четвёртые прожигали. Наверняка были другие, но она их не смела, сортируя, коллекционировать, не признаваясь себе, их боялась. Эти взгляды для больных – испытание, и не малое. На них все силы расходовали. Посмотрев на неё, в себя уходили, проваливаясь в пустоту, где безуспешно пытались за что-нибудь зацепиться. Бесшумные дни осенними листьями отлетали, и, в конце концов, научилась слишком много не размышлять, видя утром прибранную пустую кровать, на которой вчера, до её ухода кто-то, не слишком цепляясь за жизнь, коротал время до смерти. Большинство обетованных ей умирающих пациентов были в том возрасте, когда ни долго горевать по ним, ни долго вспоминать их не будут. Горевать и вспоминать – дело сверстников, которых уже почти нет и вскорости вовсе не будет. Потомкам некогда, они со стариками не слишком и связаны, не очень-то и знакомы. Старикам, как известно, тишина предпочтительна. Вот и уходят они в тишине: ни речей, ни толп, ни Шопена. Если бы психоаналитик сказал, что она пациентов боится, ни за что б не поверила. Но психоаналитик, случись в её жизни, был бы обязательно прав. Он рассказал бы, что, страх ощутив, она параллельный другой пыталась взрастить, чтобы друг друга пожрали, а когда не удавалось, страх внутрь, вглубь задвигала, словно сундук, закрывая на ключ, в дальнем углу подвала его хоронила, никогда не открывала, никогда в подвале не появляясь. Там темно, лампочка заросла такой паутиной, что даже если от древности не перестала светить, сундук в дальнем углу точно не высветит. Вообще, попробуй к нему проберись, предметы, события, ощущения брошены невпопад, вперемешку, никуда не пробраться, что зачем не понять: тени в свете подвальном срослись. Первой и последней ступенек у подвальной лестницы давным-давно нет, поэтому первый и последний шаг должны быть особенно осторожны. Но и добравшись, там можно среди множества вещей бесконечно кружить. Как в аэропорту, багаж получая. Только там багаж крутится, а здесь – получатель. Жаль, никто не догадался смолу хвойных там поместить. Великолепным янтарём она бы окаменела с инклюзиями мушек, жучков и безотрадной любви. Почему безотрадной, да так настойчиво эксклюзивно? Потому что только она достойна янтарём быть хранима. Разделённая, счастливая – пшик, шампанское не охладили, все стены подвала забрызгали. Вмиг высохло – навеки забыто. Подвал под домом, под подвалом фундамент, под которым сплошь геология, мезозои на любой вкус и на любое воображение, сплошные останки моллюсков, рыб, первобытных мыслей, эмоций палеонтологических. Потом разожгли костры, сочные куски от добычи отрезали: нынче, братья, жирный мамонт попался, выпьем, друзья, за удачу!
Днём солнце, ночью луна, если не было туч, освещали пустыню и гору с одинаковым безразличием. К человеку история безразлична. Почему же человек не может быть безразличен к истории? И если всё к нему безразлично, чего от кого к нему безразличного ожидает? Дождётся, чего от кого будет ждать? Вопросы задавал пустоте, а тем временем ниоткуда и в никуда, из никогда в никогда, от оазиса к оазису, блуждая в ярком свете дня и в смутных потёмках, двигались караваны, везущие всё, что надо для жизни: книги, хлеб, масло, вино, тоску, радость и женщин, рассказы о сотворении мира и человека, созданного мужчиной и женщиной, рассказы о вечной жизни и смерти внезапной, о тягостном мире и весёлой войне. Караваны двигались медленно, упорно, настойчиво, по сторонам не мелькали ни страны, ни города. Какие города и страны в пустыне? Поломок путники-паломники не страшились: верблюды любых машин и бричек надёжней, тех чуть что через неделю-другую пески занесут. Верблюдам что надо? Ласка, вода, колючки и чтоб не орали: «Эх, прокачу!» Чу-чу-чу – неприкаянно эхо бесконечно долго по пустыне гуляет. Гулко, как топот подкованных сапог под сводчатым потолком, невыносимо гулко гуляет. В отличие от людей, перелётные птицы знают, куда и откуда летят, над горами и пустынями пролетая, оазисы не минуя. Не знают они, как и люди, смертного часа: когда мёртвым дождём на землю прольются. В детстве пытался пустоту пустыни заполнить разнообразными существами, которые попадались: кентаврами, сфинксами и прочими полулюдьми, с которыми надеялся подружиться, они ему казались гораздо приятней и интересней целых его окружающих. Но им он был интересен не слишком. Дружбы не получилось, и пустыня вновь, теперь уже навсегда, опустела, ему пришлось кое-как дружиться с людьми. Ритмы его-её оазисов-уикендов с ритмами времени напрочь отказывались совпадать, что эпоху не волновало; в этом они были с ней солидарны, отнюдь не надеясь с выпавшей на их долю душа в душу сосуществовать. Впрочем, в любой эпохе было бы душно их жаждущим гармонии душам. Пока они, словно голодные хлебом, обменивались уиекендами, мир сыто сходил с ума (= с жиру бесился), на этом крючкотворном историческом витке далеко не всегда благодушной спирали по поводу памятников заморочившись слишком уж агрессивно. Конечно, ломать памятники получше, чем модели живые, но вакханалия эта сродни сжиганию книг, от которой до сжигания людей дистанция, не дай Бог, может оказаться слишком короткой. К каждому памятнику, назначенному молодыми да ранними и немолодыми да поздними, не давая камню и бронзе права обжалования, выдвигали претензии: не царственно царили цари, освободители недостаточно освободительно освобождали, воины были не в должной мере воинственны, писатели – литературны, художники – не слишком художественны, не достаточно святы – святые. Меру всего, чтобы никому не было соблазнительно, определяли спонтанно, прищурившись, на глазок. И весело было: каменные и бронзовые крошки летели во все стороны бессовестно и безмятежно, деепричастно днём солнце, ночью луну гнусным маревом заволакивая. При этом разрушители требовали от кого неизвестно назначить памятники безгрешные перед вечностью, обязательные к почитанию. В больнице входящих лечить и лечиться, вылечиваться и умирать встречал скромный бюстик отца-основателя, о котором мало что было известно, бюстик, не всем и не сразу заметный. Порывшись в старинных газетах, употребив внушительный грант, памятникоборцы разузнали и раззвонили, что тот разнузданно оскорбил гендерное равноправие, когда подобного понятия не было и в помине. Вот и ринулись тирана, душителя свобод уничтожить. С трудом основателя полиция всё же отбила, бюст отправили в ссылку, место в тайне держали. Одни говорили, основателя прятали в кабинете завхоза, другие – что где-то в морге. Одни считали: от посягательств. Другие, постарше, всё повидавшие, полагали: до лучших времён. Были огнепоклонники и огнеборцы, солнцепоклонники и луну почитавшие. Ничто, как известно, не ново ни под солнцем, ни под луной, ни под могучим светом над операционным столом. Избавить мир от поползновений памятникоборцев было предложено согласно древним рецептам, подобное подобным уничтожать, что означало: поставить памятник разрушителям памятников. Памятник, однако, морока: скульпторы, архитекторы, разрешения, согласования. Похоже, этот безумный джинн, которому в юности какой-то памятник плюнул в чистую душу, в бутылку вернётся не скоро: слишком много воздвигнуто; лишнего, понятно, немало. Самый эффективный, часто единственный способ совладать с пароксизмом безумия – выжечь его калёным железом пароксизма другого безумия. Примерно так, как с одним страхом другим страхом бороться или наркоманией с алкоголизмом сражаться. Во время уикендов даже памятникоборческое безумие, занимавшее самые пытливые умы современности, их не волновало. У писателя (= повелителя теней) с врачом (= теней повелителем) были темы и дела поважней, грозившие постепенно перебраться и в будни, чтобы всё интенсивней, принимая форму то бабочек, то стрекоз, а то и мыслей мучительно неуловимых, они перелетали от повелителя к повелителю, всех непричастных к их перемещению в пространстве брезгливо не задевая. Литературные и врачебные тени оказались очень похожи. Только одно: в отличие от литературных, врачебные уходили легко, за выпавшую на их долю реальность обессиленно не цепляясь, уходили по-английски, задолго со всеми, кто им был дорог, ещё не будучи тенями, мучительно распрощавшись и напоследок натолкнувшись на диалог. – Коль вы человек нового времени, то не можете не быть адептом этики новой. – Или этика, или новая, иного, увы, не дано. – Дано, очень даже дано. – А если дано, так, как кино, которое смотришь не из зала – по ту сторону смотришь: блуждая, луч света, ткань прорывая, слепит глаза, которые рукой прикрываешь. Литературные тени очень живучи, врождённая впечатлительность делает их невыносимо тоскующими по всем, с кем, как слюну, сглатывая восхищённость, на веки вечные расстаются. Инфернальничая для забавы, они цепко держатся за собратьев и прошлых, и будущих, ведь их контрафактная реальность, в отличие от врачебных теней, состоит из одних эпилогов. Все они, литературные тени, в поколениях неисчислимых – потомки тени, некогда навсегда в глубине пещеры под звук смущённо восторженной флейты мелькнувшей. И что более всего поражает, даже на качелях раскачиваясь и озорно в небо вонзаясь или на кончиках пальцев нечаянно жизнь балетно пересекая, непорочным зачатием своим не кичатся. Сарынь на кичку – никак не про них: не будучи сарынью, что такое кичка, вовсе не ведают, хотя языковой чуткостью обладают, это уж несомненно. Кстати, в отличие от больничных, дорожащих прижизненными именами, литературные настоятельно безымянны, тем самым свою архитипичность подчёркивая; иные выражаются немного иначе: выпячивая, употребляя слово в кругу теней совершенно наждачное, чего они, лелея тактичность, совсем не выносят. Только что это всё о тенях, хоть бы даже происхождения королевского. Не пора ли к личностям в полновесных телах возвратиться. Ведь именно они, в отличие от собратьев писательских, отбрасывают врачебно-больничные тени, которые бродят ночами бесконечно холодными коридорами в поисках той точки в пространстве и того мгновения вечности, в которые можно будет вернуться – с телами оставленными соединиться. Кто верит и ищет – рано-ли-поздно этот миг, эту точку непременно найдёт. Такое среди теней бытует поверие. Может, когда и случалось. Кто знает? Свидетельств не сохранилось. Да и кому, если бы и случилось, его сохранить? Блудному сыну, к отцу блудному неведомо где приблудившемуся? Столько жизни между ними уже не случилось. Как друг друга узнают? Какая сорока истинность родства на хвосте принесёт? Какая кукушка годы разлуки щедро ли, скупо им накукует? Разве что дятел азбукой Морзе какую-нибудь звонкую сентиментальную похабщину настучит. В мире теней, на удивление не заражённых тщеславием, всё истинно и жестоко. Даже песенка, которую о себе напевают (тонут тени в тине топкой) правоверно правдива и жёстко жестокосердна. Сопливо розовой лжи у них не бывает. Разве чуть-чуть раз в году, в Вальпургиеву ночь: шабаш, шампанское, шутки шальные, шебуршащие шалости, шаловливых штопаных шёлковых штанишек шуршание.
опубликованные в журнале «Новая Литература» в июле 2021 года, оформите подписку или купите номер:

Оглавление 1. 1 2. 2 |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|

