Михаил Ковсан
РоманОбычная история жизни и смерти
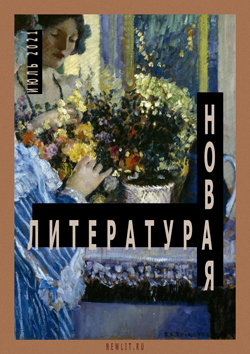 На чтение потребуется 7 часов | Цитата | Подписаться на журнал
Оглавление 1. 1 2. 2 3. 3 2
Заплечные мешки двух странников, идущих рядом и навстречу друг другу, целительной иронией под завязку набиты. Они ею ноги, уставшие от ходьбы, натирают друг другу, надёжно в своём существовании убеждаясь. Каждый уикенд туда-сюда, подобно маятнику, перемещаясь в пространстве, они невольно, нисколько о том не задумываясь, подражали великим: Одиссею, Дон Кихоту, Чичикову, да и многим другим странникам, бредущим по свету в поисках того единственного, которое придумали для оправдания собственного прекрасно бесцельного бытия. Они двигались по дороге с многосторонним движением совершенно неважно куда – всё равно не доедешь, важно, как и с кем удостоился перемещаться в пространстве, назначенном рождением, обстоятельствами, да мало ли чем ещё в этом полном случайностей мире. Два топоса, соединённых-разделённых хронотопом дороги. Вопрос: какой текст быстрее и лучше соединит? Детектив? Притча? Поэма? Эпитафия или эклога? До встречи никогда друг другу не снились, а затем никогда не ездили вместе. Он к ней, она к нему – порознь. А в этом сне – рули и справа и слева в одной машине, то ли его, то ли её, не понять: во сне, как и в жизни бодрой и трезвой, не всё должно быть понятно. Лево-правостороннее движение – вместе рулили. Он вправо – она влево подправит. Она влево – он правее возьмёт. Едут, не удивляются. Во сне и не такое бывает. Мост посередине реки обрывается – руля в воздухе, пролетают. Вместе он и она и не на такое способны. Кстати, как река называлась? Днепр, Иордан, может, Стикс? Или Подкаменная Тунгуска? Кому из них сон этот приснился? Какая разница? Пусть будет: обоим. Хотя в духе времени такое состояние, похожее на супружество, продолжалось уже третий год, он знал о ней ненамного более, чем тогда, после первой встречи, когда получил приглашение навестить, погулять, пообедать. С тех пор, прощаясь, друг друга на следующий уикенд деланно чопорно приглашали: погулять, пообедать. Так и сложилось: один уикенд у неё, в старом доме на западной окраине города, другой – у него в современной квартире на восточной окраине. Мало что отменяло полтора-два дня в неделю совместной жизни, за которую друг о друге можно было бы всё узнать досконально. Можно было бы, но не узналось, так уж сложилось. Конечно, она знала о его прежних пристрастиях, а он о её погибшем нелепо от своей же пули солдатской полковнике с зачёсанными назад волосами на большой фотографии в кабинете. Она знала о его книгах и о сценариях, один из которых получил престижную, ну, очень престижную – растягивая слова добавлял – премию, жаль деньги кончились, это петитом. Он знал, что она – правая рука знаменитого профессора-онколога, ведущий врач – ему подражая, она добавляла – ведущей больницы, не только правая, но и левая. Однако это было каким-то знанием внешним, ни к чему не обязывающим. Так и такое можно знать о любом, не только о том, с кем проводишь полтора-два дня в неделю, что вовсе немало. Тем более что к этим часам необходимо добавить и время, уходившее на приготовления. Главное, конечно, обед. Если цейтнот был совершенным, заказывали. Но повелось, старались этого всеми силами избежать, что развивало фантазию: хорошо было чем-нибудь удивить. Наверное, кулинарные изыски (не всегда, однако, слишком успешные, особенно у него) были единственной доступной в их отношениях формой проявления… Чего, собственно? Того, что между ними сложилось. Как назвать? Она не пыталась. А у него при всём словарном запасе, накопившемся за годы журналистской службы и писательской вольницы, точных не захватанных слов не находилось. Вообще, в отношениях с ней у него были лексические проблемы: оказалось, что у неё не было ни ручек, ни губок, эти суффиксы с ней не сочетались, к тому же он раньше весь их запас исчерпал, теперь были совсем ни к чему. Полутора-двух дней им хватало. Поначалу никто не задумывался: только уикенд – почему? В первое время приходило: поужинать в центре, как раз пошла мода на эксклюзивные рестораны, соревнующиеся, стараясь чем-нибудь поразить. У него на это время нашлось бы. Но у неё, если такая мысль и мелькала, тотчас терялась в бесчисленности других: и впрямь в последнее время стала и правой и левой руками стареющего профессора, которого считала учителем и ради которого готова была дневать и ночевать в отделении. Профессор, которого ни разу не видел, был ему интересен. Через её к нему отношение пытался проковырять дырочку в заборе, которым себя от других, в том числе и от него, отделила. – Сколько твоему профессору лет? – За семьдесят, – ответила, не задумавшись и не ответив. За семьдесят – могло означать и семьдесят пять и с чем-то там восемьдесят. В любом случае пора нянчить внуков, которые, к его удивлению, у профессора были, тем самым отдаляя его от хорошо известного типа – монстра, женатого на своём отделении. Такие чудаковатые холостяки на чём-то большем, чем отделение, на больницах, к примеру, никогда не женились. Отделение – в самый раз, не только все врачи, медсёстры и санитары знакомы, даже многих больных помнишь годами. Чудачеств у нашего профессора, как он, своевольничая, его называл, было немного. Одно, о котором она рассказала, было совсем безобидным. Некоторые выражения не переносил. Его корёжило, когда говорили, мол, это другая тема. «Всё, всё в мире единая тема!» – отвечал раздражённо. В этом он с профессором был совершенно согласен. На языке постоянно вертелись вопросы, которые хотелось задать, но понимал – бесполезно. Дело даже не в том, чтобы не услышать ответ или услышать отговорку невнятную. Не отвеченный вопрос – клин в отношениях. Коль дорожишь – спрашивай то, на что без натуги, без муки ответят. Вопрос – штука острая. Знал по себе. Его первая как бы жена доспрашивалась до вроде бы как до развода. Они обо всём говорили: о религии, об обществе, о семье, о политике даже. Намекала, чтобы себя в ней попробовал. Все журналисты, так полагала, мечтают, по крайней мере, в парламент пробраться, к чему склоняла его поначалу намёками, затем и вопросами. Отшучивался, уходил от ответа, насмешничал, пока вопросы-ответы иссякли, сами собой прекратились. Обоим игра надоела. Под утро, после дежурства – он тогда служил в одной из ведущих газет – вернувшись, застал пустой шкаф, демонстративно распахнутый, и записку на самом видном месте – на холодильнике. Похоже, надеялась, что спохватится, назад позовёт, и она, поломавшись, вернётся: очень и очень тип-топ. Он дверь шкафа захлопнул, записку выбросил в мусор и спать до вечера завалился. Через несколько лет встретились за границей, на конференции: он – информация, она – перевод. Поужинали, поговорили как ни в чём не бывало, прошлое вспоминая с улыбкой. Обменялись телефонами и раз в полгода звонили: давно замужем, старший сын после армии, думает, куда поступать – не подскажешь? – она в МИДе группу переводчиков возглавляет, и что-то о муже. И только один вопрос: а как у тебя? Как поступит герой, не слишком ему знакомый мужчина, можно сообразить, ситуацию к себе примеряя. С женщиной гораздо сложней: заводить знакомства, чтобы с героиней своей разобраться?
В студенческие годы принцы на белых конях вокруг неё скакали то густо, то пусто в зависимости от её погружённости в учебный процесс и по большей части тратили овёс и время без зримой надежды. Потом была больница, полковник в ореоле таинственности, которая до конца не развеялась. Познакомились в больнице – где же ещё? – её вызвали на консультацию к военному, которого он, его командир, очень вовремя навестил. Подчинённого больше не видела: подозрения по её части были напрасны, а вот с командиром… Затем до писателя только больница, внутри которой постоянная температура, постоянные шумы и постоянные запахи. Снаружи – то серо, хмуро и мрачно, то светло звенит юными льдисто ломающимися голосами, сверкающими на изломе. Её больница над домом её нависала. Конечно, можно было, ободравшись и по уши вымазавшись, тропу отыскать, чтобы, запыхавшейся, обессиленной до двери доползти, но вместо этого она садилась за руль полковничьей одряхлевшей машины – единственного наследства, если не считать воспоминаний – и через пять минут подъезжала к стоянке, где ещё четверть часа могла промучиться, отыскивая местечко. Тогда-то и подумывала о пешем пути. До следующего раза, конечно. Дом сложился не в городе: на вольном горном просторе, когда ещё на вершине горы не было многоэтажных монстров больничных, к искусству архитектуры никаким усилием не причисляемых. Если бы знали, что, срезав живую лесную макушку, поставят эти серые корпуса, для дома выбрали бы место и поуютней. Время шло, город на окраины наступал, однако неожиданно для всех проявил благородство: дом и соседей его не разрушил – со всех сторон обошёл, охватил, обнял, объятия не сжимая. Отсрочив смерть, жизнь даровал, не вольготную, как прежде, но всё же. За домом, чем сильней ветер, тем громче её детские качели скрипели всё время по-разному, каждый раз о другом. Отец врыл их за домом и раскачивал её до тех пор, пока не научилась сама. Сидение когда-то было весело разноцветным: каждой весной цвета оживлялись. Краска давно облупилась. Скрип изменился. Неизменной была лишь нота тоски, теперь доминирующая, которую так хотелось вычеркнуть из партитуры, но тогда качели станут не скрипеть, пусть тоскливо, но выносимо, начнут скрежетать, грозя обвалиться: стерпеть невозможно. Придётся кого-то позвать, чтобы, выкорчевав, ржавый скрип снести на помойку вместе с большим куском прежней жизни, которой никогда больше не будет. Получается, все ноты живой музыки надо терпеть, никуда не деться, ничего вычеркнуть не пытаясь. В том году в саду рано зацвёл миндаль, одичавший и горький. Миндальное дерево полковник давно собирался спилить – не собрался. Услышала звонок. Его голос: «Понятно». Открыла глаза – одетый её целовал. Подъехала машина, это насторожило. Обычно уезжал на своей. Уехал затемно. Так исчезал он не в первый раз, и каждый раз ей было не по себе. Мучительное ожидание было невыносимым. В таких случаях ждать звонка бесполезно. Он сосредотачивался так плотно, что никакие проблески к делу не относящегося в него не проникали. В такие минуты, часы и дни ей в его мозгах не было места. Утешало одно: ей первой позвонит, когда всё будет кончено. Через день? Через неделю? Вопросы пустые. Спасение было одно, невозможное – об этом не думать. Встала, через полчаса была в отделении, которое засасывало целиком, со всеми мозгами, отнимая все силы. Больные, давно рассчитавшись на годных к жизни и на негодных, спали – кто мог уснуть, кто не мог – с открытыми глазами лежали. Один тихо, никому не мешая, предавался привычному: имя своё повторял, боялся забыть. Сёстры сомнамбулами передвигались, заглядывая в палаты, мониторы светились надеждой, как-нибудь обойдётся: больные станут здоровыми, здоровые не заболеют, он вернётся, она возьмёт отпуск, куда-нибудь умотают, найдут место глухое, безлюдное, поставят палатку и будут о душе в душе мечтать мучительно и бесполезно. Только успела поужинать. Пила чай без сахара, с клубничным любимым с детства вареньем. Прошуршала машина. Услышала звук шагов от калитки. Их было слишком много для одного. И зазвучало, загудело, любимые полковником битлы дятлами в голову застучали. Поднялась, направляясь к двери, надела лицо, которое носила в отделении, иногда забывая снять, уходя. У этого лица были две доминанты: уверенность и серьёзность. Серьёзность, потому что иначе ни одному слову её не поверят, особенно те, для которых градус опасности повышать было необходимо. Пусть испугаются, тогда глупостей не наделают. А уверенность была необходима для всех и всегда: и для трусов, и для бесшабашных. Открыла дверь – ни позвонить, ни постучать ещё не успели. Посторонилась, мимо себя пропуская, молча, без слов. Говорил командир, с которым её полковник ещё мальчишкой-лейтенантом из дома родителей исчезал по ночам. Случайная пуля, спустя пару лет узнала: своя, пробила горло, спасти было никак невозможно, там сделали всё, что положено. Где это «там», не уточнялось. Умер ещё в вертолёте. Похороны утром. К полудню она была в отделении. Ничего никому не сказала. Профессору передали, что её утром не будет. Был недоволен, но, увидев её, ничего не сказал. Вечером, когда выходила, над больницей кружил вертолёт, примериваясь к посадочной площадке на крыше. Позвонила: большая авария, автобус, большинство пострадавших к ним доставляют. Стояла, по-идиотски вверх голову задирая, словно пытаясь увидеть его на полу вертолёта. Но видела не его, а кровь, текущую безостановочно, вертолёт до краёв наполняя. Ни ей, ни ему места там не было. Где это «там», никогда не узнала. Пресса молчала. Ни сном, ни духом, ни намёком, ни словом двусмысленным. Такое бывало нередко. Вот и всё. Там – значит, там. За сто километров от её отделения или за тысячу. Какое это имеет значение? Дождалась, когда вертолёт приземлится. Если на крышу – всё равно приземлится? Что будет дальше, знала прекрасно. Вертолёт – это следствие, авария – это причина. Суматоха вокруг вертолёта на крыше – следствие его приземления. И правда, командир говорил о следствиях и причинах. Тогда не поняла, к чему он ведёт. А вёл он к тому, что её полковник не только, как оказалось, причины со следствиями соединял, как никто другой, но и в чужие причины-следствия проникал очень умело, находя лазейки, о которых никто не догадывался. Вот только… В нашем деле никто от случайностей не застрахован. Всё. На крыше суматоха закончилась, в другом месте продолжившись. Вертолёт взлетел, осторожно между строительными кранами пробираясь, отправился домой или за новой партией пострадавших. Сколько помнила, между больничными корпусами всегда краны торчали, наверное, как следствия неприятных причин: больных становилось всё больше, их болезни становились разнообразней и изощрённей, для чего и строились новые корпуса. Замок звякнул, цепь замыкая. Выстрелы грянули. Затем как-то сразу, хотя положенные дни истекли, собрались у могилы. Людей было немного. Командир не пришёл. Незнакомый на ухо: «Извините, работа». Время было опять беспокойное. Опять и снова, как её полковник любил говорить. На открытии памятника народу было побольше, его товарищи (у неё были коллеги), пришёл и командир, говоривший, как его ценили и какая карьера её полковника ожидала. Открыли памятник точно такой же, как все остальные на этом кладбище, возносящемся над городом живых, как над её домом больница её. Стала жить без него. Раз в год в день его гибели приходила: мыла камень, чтобы буквы, единственное отличие от других, были ярче и чётче, и исчезала, поджидая, пока не приходили товарищи во главе с командиром. Круглооко с кривоватой улыбкой смотрела на них издалека. И после появления писателя по-прежнему приходила к полковнику своему, бывшему на излёте полковничьей, накануне более оседлой генеральской карьеры, тем самым мешая её сделать другим. Теперь не мешал, и она его слова вспоминала: оседлые лебеди – это лебеди с подрезанными крыльями, инвалиды, калеки. Писатель и полковник? Одно к другому никакого отношения не имело. Писатель своей грубоватой настойчивостью её удивил. Казалось бы, полковнику такое больше пристало. Но нет. Тот как раз был мягок и не очень решителен, ей иногда приходилось не то чтобы командовать, но слегка направлять. Писатель же свои амбивалентности и рефлексии стаскивал вместе с одеждой, и она, каждый раз слегка удивляясь, двигалась за ним в нервном темпе, немного для неё резковато стремительном. Не могла не сравнивать, хотя самой себя стеснялась, считая это кощунством. Но что поделать могла? Не идти же к психоаналитику с идиотской проблемой, чтобы тот выковыривал из подсознания глупые сравнения и прочие нелепые тайны. О таком у её писателя в каждой книжке персонажи без устали говорили. Там это было уместно. Но она из теста иного, наверное, именно это его к ней потянуло. Писателю в каждой новой книжке нужно быть новым. Иначе кто станет читать? Для писателя он казался ей слишком скрытным. Почему-то думала, если писатель, то душа нараспашку. О себе говорил коротко, ничего не выдумывая, не приукрашивая, но оставляя впечатление недоговорённости. Чтобы было о чём писать продолжение. Писатель и полковник и ели неправильно, несоответственно ожидаемому. Полковник всему остальному изящные салаты предпочитал, особенно любил неожиданность в виде неизвестного овоща или фрукта. Писатель отнюдь не гурманствовал, любил мясо без всяких соусов и прикрас, не слишком прожаренный стейк на углях – самое то. Смерть и еда – субстанции, скажем так, весьма и весьма сопрягаемые. Принято близости этой стесняться, отворачиваться, вегетариански жеманясь. В Азии у входа в ресторан квохчут куры и кукарекают петухи, в аквариумах плещется рыба: выбирай – через минуту зарежут, через пятнадцать минут на стол подадут. С полковником всё было ясно, чётко, определённо, кончилось пустотой. С писателем – не ясно, не чётко, не определённо, и, по крайней мере, пока не кончалось. Порой казалось, полковник, слыхом не слыхивавший о писателе, ему завещал: понимаешь, было всё хорошо, но не сложилось, не виноват в этом никто, постарайся, надеюсь, у вас получится лучше, ведь тебе не приходится вскакивать по ночам, мне деться некуда, надо доверие оправдать и тех, кто мне отдаёт приказы, и тех, кому я отдаю. В саду, большом, неприкаянном, посаженным ещё прадедом, купившим этот дом и основательно его перестроившим, в саду привыкший к каменным джунглям писатель не появлялся, что-то там сделать, спилить, расчистить, что-нибудь посадить, речь не заходила. Нужды в этом особой и не было: за садом следил, как умел, сосед, давнишний отцовский приятель, но, несмотря на огромное рвение, сил и возможностей у него – возраст! – было немного. Писатель предпочитал саду прогулки, и когда появлялся на её территории, они иногда уходили с утра и, облазив окрестности, только к вечеру возвращались, пообедав под приглянувшимся деревом бутербродами, которые в четыре руки, друг другу мешая, наперегонки мастерили. Он резал тоненько, мелко, она – потолще и покрупней, и, словно играя в твоё-моё, она его изделия ела, а он – её. При полковнике сад задышал свободно и широко в надежде на перемены. Разделил сад на участки и начал урывками, по кускам преображать. Она не вмешивалась: пусть чувствует себя хозяином, ему это идёт, их отношениям не вредит, скорей напротив. Всего участков, назначенных преображению, было около двадцати. Успел довести дело до задуманного на двух, ещё на трёх преображение было на разных этапах. На преображённой территории исчезли непонятного рода кустарники, нечто одичавшее и выродившееся в процессе ботанической эволюции, на их месте возникло яблоневое подворье: ранние, среднеспелые, под поздние был назначен третий по счёту из возрождаемых. Период плодоношения посаженных полковником яблонь ещё не пришёл, но уже началось одичание: кусты с соседних участков непрошено проникали, их интервенцию никто не останавливал. Участки были в самом конце сада, где она не появлялась, а планы соседа были куда как скромнее. Полковник спал чутко, засыпал-просыпался мгновенно. Писатель просыпался долго, засыпал бесконечно, спал беспробудно. Она – жаворонок. Они – непонятно, мужчины – странные, неопределённые птицы. Познакомить бы. Писатель бы набросился: на новое падок. Полковник? Непредсказуемо. Вектор его отношения к людям вне службы ей учуять не удавалось. Всё хотел с её профессором познакомиться. И это, увы, не сложилось. О деньгах отнюдь не в духе времени полковник не думал. Сколько приходило, знал точно. Сколько уходило, знал приблизительно, точно лишь сумму, которая уходила первой жене для взрослеющей дочери, перебравшихся в Калифорнию. Дочка знала, что он военный, но без малейших подробностей. Поздравляя с праздниками, писала ему по-английски, что приедет служить, только в его части, конечно. Когда дочь была совсем маленькой, жена, прежде чем передать ей трубку для заученной речи, рассказывала об их делах, ничего никогда не просила, а он не предлагал. По мере взросления дочери разговоры с бывшей женой сокращались, пока вовсе не вывелись. На всякий случай полковник был невыездной. Конечно, он мог бы добиться, что-то придумать, но и пальцем не шевелил: вне службы был человеком инертным. Раньше бывшая жена обещала привезти дочь повидаться – знала, для него приехать непросто – затем та стала сама обещать. Был бы настойчив, наверняка бы произошло, но каждый раз представлял, как, встретив дочь, получает звонок, срывающий его бог знает насколько. Это настойчивость подрывало. Может, было что-то ещё? Наверное. Ей в этом было не слишком приятно копаться. Писатель о расходах тоже не думал, хотя они были, в отличие от полковничьих, хаотичны. Детей и финансовых обязательств соответственно писатель не нажил. Когда было, тратил, когда не было, затягивал пояс: такая финансовая политика. Зато о том, где взять, вынужден был соображать постоянно. Когда поджимало, вспоминал про кормушки. «Пошёл побираться», – докладывал о походах на радио или забрасывании спиннинга в мутные воды бездонного интернета. Однажды в тяжкий период попыталась протянуть официанту кредитку – рассвирепел, чего никогда не случалось. Подумала: а полковник? Как бы он поступил? А никак. Его кредитка, её – у полковника в голове постоянно что-то крутилось ей не понятное. Впрочем, у писателя тоже. Наверное, мужские головы созданы не для того, чтобы думать, а чтобы в них что-то крутилось. О полковнике никогда нельзя было понять, в порядке или что-то случилось. Ни радости, ни тревоги след на лице не оставляли. Спрашивать, как дела, бесполезно. Вначале шутила: «Как у тебя всё в порядке?», потом и этот вопрос задавать перестала. Возвращаясь, входя в дом, прошедший день, или два, или пару недель оставлял за порогом, дверь затворяя плотно, бесшумно, чтобы то время за ним не пробралось. Зато её выспрашивал о делах, и она охотно говорила обо всём понемногу, и о больных, понятно, имён не называя. Охотно втягивался, спустя пару месяцев вдруг спрашивал о таком-то, такой-то, хорошо, если память к удачному случаю возвращала, скверно, если напротив, тогда настроение портилось у обоих. Со временем исхитрился спрашивать неопределённо, по первой неконтролируемой реакции догадываясь, стоит ли уточнять или лучше на другое свернуть. Странно, но и писатель больше любил слушать, чем рассказывать о себе, о своих делах, которыми всегда был недоволен. Вышла книжка – кто с дебильной обложкой купит такое. Распродали – идиоты, никогда с тиражом не угадают. Сняли сериал по роману, который писался долго, с трудом, а потом ещё трудней в печать пробивался (зажрался издатель), наступал конец света. Дурацкие актёры, режиссёр сущий дебил, всё рвётся, вышла дрянь несусветная. Сериал стал хитом – чего ты хочешь, правы театральные: публика дура. Её слушал внимательно, требуя малейших деталей, характерных словечек больничных, жестов, повадок. Иногда, словно смакуя, будто примеряя к чему-то, повторял жесты, слова, вопросительно глядя, мол, так ли? Особо любил то, что на его языке больной логикой называлось, на самом деле логикой больных, у которых случайные вещи, связываясь друг с другом, давали абсурдные результаты. Эти безумные цепи фактов и следствий любил повторять, любуясь, словно дикарь, весело теребящий разноцветное ожерелье на чёрной лоснящейся на солнце груди. И это в песок уходило, ни одного медицинского героя или героини он не завёл. А может, завёл, но не публикует и ей не говорит. Никогда свежее в печать не отдавал. Вылежится, просохнет, посмотрим.
Дома в округе, некогда плотно набитые детским плачем и смехом, теперь одиноко лепились друг к другу опустевшие, холодные даже в жару, тщились век свой продлить под присмотром за редким исключением одиноких старух, умирание стороживших. Дома не подлежали продаже: оставшиеся владельцы полагали подобное святотатством; наверное, они были правы. Новые владельцы старые дома наверняка перестроят, а львят, покой охраняющих, журавлят, детей оберегающих, солнечных зайчиков, окна благословляющих, и прочих зверушек, разные жизненно важные функции исполняющих, божьих творений из камня, глины и света, украшающих входы, фасады, окна и крыши домов, наверняка изведут. Большинство обитателей этих домов с жизнью ужасно тяжело расставались, до последнего, оставив попытки задобрить судьбу, неукротимо цепляясь за формулы, слова, краски, за право объяснять, чем не справедлив этот мир, иные – за власть. Его семья тоже была из этих западных мест, но родителей на восток потянуло, в пустыню. Не в пустыню-пустыню, не в Сахару, но всё же песок и немая бескрайность, в которой замирали звуки знаменитой песни прощания из «Шербурских зонтиков», которые они и всё их поколение безмерно любили. Через год после матери умер отец. Без неё живым быть не умел. В ответ на внимание, которое ему оказывала хозяйка, дом должен был давно развалиться. Но, общепринятое мнение игнорируя, тихо-тихо в землю врастал. Камни, из которых лет сто с чем-то назад его очень аккуратно сложили, почернели, нижние позеленели, черепица упорно не трескалась, дождям внутрь путь категорически преграждая. Дом, проседая, времени не поддавался, не думая о том, что только, грозя катастрофой, мог рассчитывать на должное уважение к летам своим и на ремонт, пусть даже не капитальный, но основательный. Под крышей дома у водосточной трубы было птичье гнездо. Между камнями, словно в скальных расселинах люди, муравьи бесконечно сновали. В открытые окна залетали бабочки и стрекозы. Вослед цоканью лошадиных копыт цикады бесчинствовали безостановочно и безутешно. В крошечные, глазу не заметные щели узкотелые ящерицы проникали. Всего этого жильцы дома не замечали, а если случалось, надолго их внимание это не занимало. Что до истинных хозяев дома, то они в тайных норах, тёмных закоулках своих грызли кусочки сыра и вечности, украденные у жильцов. От провисшей облупившейся калитки – щеколда на место не попадала – к дому узко тянулась дорожка. Вдоль неё полковник повтыкал фонарики-светляки. С тех пор возвращаясь безлунными ночами, она могла идти уверенно, не спотыкаясь. Светящаяся дорожка именинным тортом казалась: задумать желание и задуть. За домом был сад. За садом дорога, по которой, пыль поднимая, раз в день заблудившаяся машина тоскливо тащилась. За дорогой кладбище, не старинное – старое. Последние лет пятьдесят никого не хоронили, и бесприютные покойники перестали ждать, что их кто-нибудь навестит. Покойником вообще быть не сладко, а не навещаемым – просто ужасно. Памятники скособочились, надписи на камнях полустёрлись: то ли ветер буквы с них посдувал, то ли смыли дожди. Издали не понять даже, что кладбище: пустырь неприкаянный с камнями разбросанными. Чтобы никому ничего в голову не пришло, власть озаботилась: поставили щит, предупреждающий вести себя тихо, прилично, место упокоения, и всё такое. Похоже, предупреждение не работало, то ли щит не замечали, то ли не читали написанное. В нескольких местах чёрные угольные проплешины: на кострах жарили мясо. И то сказать, найди местечко в округе для пикника. А покойникам что? Завидовать давно разучились, кладбище старое, наверняка последние годы свои доживающее до срока, когда можно будет согласно закону разбить парк, детскую площадку, открыть автостоянку, а то и выстроить здание. Ничему исчезнувшая память не будет помехой, возражать не будет никто, тем более деревья, как нищие, демонстрирующие увечность свою ради милостыни пожирней, являющие убогую чахлость близкому граду и далёкому миру. Не раз, когда кладбищенская заброшенность на глаза попадалась, мысль шальная являлась: переступив через заборчик, побродить между оставшимся от памятников и могил, может, знакомое имя в траве промелькнёт, эпитафия чудом случится: наведут на сюжетец, коллизию, из тех, что выдумать невозможно. Он любил этот дом. Наверное, потому что никогда в доме на земле ему, выкормышу городскому, жить не приходилось: всё квартиры от очень тесных к чуть менее, затем и вовсе к просторным. Но самая просторная квартира – лишь часть того, что делишь с другими. Мой дом – моя крепость. Квартира? За одной стеной двигают мебель, сверху льют в кухне воду, а под тобой дрелью мозг раздирают. Как ни крути, квартира – насмешка над домом. И дело здесь не в пространстве. Вряд ли жилая часть её дома была больше квартиры. В отличие от дома, в квартире нельзя заплутать, нет чердака, где свалены ненужное трём, а то и четырём поколениям. Подумав об этом, представил замок, на чердаке которого барахло многих эпох, и из всех наследников не нашлось ни одного любопытного, чтобы в паутине и помёте летучих мышей, в чужой-своей памяти покопаться. А что, если попросить её пустить на чердак? Пожмёт плечами, брови поднимет – иди, смотри не свались, по лестнице ступай осторожно и принеси Босха или, если нравится больше, Микеланджело или там Рафаэля. Ответить: а если Тициана – прогонишь?! Только к такому походу надо бы подготовиться, хотя бы одежду для этого дела годящую привезти. А если скажет: нельзя? Нет, так точно не скажет. Прямым словом вообще не владеет. Или так только с ним? Боится обидеть? Может, профессиональное? Не скажешь ведь пациенту: всё, брат, пора помирать. Надо как-то иначе. Боюсь, жизнь вашей матери подходит к концу. Как сказал ему врач прямо в глаза и вместе с тем глядя куда-то, в потолок или в стену, но не на него, одновременно экран с зелёненькими точками, палочками и кружочками метастаз поворачивая. Интересно, их этому учат? Или своим умом, сами доходят? Спросить? Слишком много ему надо спросить. Про чердак. Про не прямые слова. И ещё целую прорву. Но вопросы, замораживаясь, внутри него остаются, когда приезжает. Тем более, всегда что-то у него не готово. Там не домыто. Тут пыль не вытерта. Заказ не привезли, надо срочно звонить, а тут, как назло, издательский или телевизионный звонок. Благо бы дело. А то муть собачья: нельзя ли здесь сократить, а тут – сцена в постели – жару подбавить. И обижать человека не стоит: для него же старается, чем больше продаж, тем просторней квартира. Издательского ещё можно терпеть: пару слов туда, пяток слов сюда, проза поэзии гибче, не страшно. Телевизор же – просто чума. Эта сцена никуда не ложится, ни с какой другой никак не стыкуется, надо убрать. Но там же… Это слова. А у нас с вами – зрительный ряд. Если не видится, то и слышаться не должно. Дело ваше, попробуйте переписать, может, пройдёт. А в таком виде, извините, ни в какие ворота. Он так живо видел этот чердак, что не удивился бы, попади туда, найдя в точности, каким представлял. Главной находкой был бы суперсюжет, из тех, какие придумать никак невозможно, можно лишь случайно наткнуться. В доме был и подвал, но туда не тянуло: метасюжеты водятся только на чердаках старых домов, построенных бог знает когда, чёрт знает кем и… Тут фантазия зашкаливала: никакой метасюжет выдержать был не способен, никакой чердак вместе с подвалом вместить не могли. Во-первых, дом у дороги. Не совсем? Это неважно. Подвинем. Во-вторых, дорога вьётся в гору, пусть не слишком высокую, но всё равно – с птичьего полёта взгляд на равнину. В-третьих, в отличие от кладбища, дорога не старая – древняя. Археологи: римляне строили, через горы в Город от моря, оттуда в пустыню, которая упирается в ещё одно море. Вот и вся жизнь: от моря до моря, вся история: от бог знает когда, до момента, когда, как полагали ошибочно, кончилась. То есть, вроде бы кончилась, нажал Всевышний на паузу, а потом заново запустил. А тут решили: эпоха отдохновения от истории наступила. Враки! Давай, кролик, беги: строй, воюй, изобретай, шпаги глотай, факелами жонглируй, детей рожай, чтобы с днём твоего рождения поздравлять забывали, и прочее-прочее, милое, родное и несусветное. Вот такой подвал. Вот такой себе дом. Почитай у кладбища, в её детстве любимом месте игр мальчишек немногочисленных; сад и забытая дорога не в счёт. Зато та, настоящая, римская, в горы – ого-го с неё видно: и то, что будет лишь завтра, и то, что было вчера, когда шли одетые в доспехи века двадцатого легионы, воздев головы горе, возглашающие одержимо: «Осуждённые на свободу приветствуют тебя, смерть». А днесь с хлебом насущным? Холодильник открой – погляди, что Господь через супер послал, разогрей – и блаженствуй, пока не пресытишься. Когда думал о доме, кошачьи свернувшемся клубком под горой, не покидало ощущение дежавю. Где, когда раньше он видел? Не этот. Но очень похож ощущением от него. Пригляделся – флюгер затрепетал на ветру, словно тот всё время менял направление. Странный флюгер на странном доме под черепицей, почерневшей от времени, некогда отчаянно красной. Думал-думал, «хтонь» зачем-то сболтнулось: пути ассоциаций неисповедимы. Сказано в Притчах, что человеку неведом
Путь орла в небесах, путь змеи на утёсе, путь корабля в сердце моря, путь мужа к девице.
Не сказано главное: путь ассоциаций. Как его проследить? Полез на шкаф, смахнув рукой пыль, холст поставил к стене. Гора выдавливала из себя небольшую поляну – светлую промоину в тёмно-зелёном хвойном, смолистом, просверленном солнцем массиве. На поляне ютился неприкаянно дом, слегка обветшавший, слегка потемневший, но крепкий, выстроенный не на одну длинную жизнь. В подвале дома хтонь, на семидесяти языках свободно без акцента визжащая, обитала. И была в доме загадка, тяжёлая тайна, художник о ней не знал ничего, но, смутно ощущая, только её рисовал, всё остальное: дом, поляну, гору к ней пририсовывал. Вообразил: открывает дверь этого дома, окна распахивает, и оттуда со сладковатой мутью каннабиса, туманно окутывая, проступают жизни обитателей, начиная с расчищавших поляну и строивших его под горой, сизифово над ним нависающей. Зачем открыл дверь? Окна зачем распахнул? Какого выпустил джинна? Вот, потирая бока, залежалость вековую массируя, он кружит над домом, над ним, горе-спасителем, изгаляется. Джинны добрыми только в глупых рассказках бывают, а настоящие злы (природа!) и бесконечно глумливы, словно вертлявые темы флейт и тромбонов у великих композиторов, живущих в страшные, нечеловечески злобные, чудо-юдные времена. Мелькнуло: дом чужих отвергает, пытающийся в нём пожить жизни будет лишён. «Экая готика», – сказал сам себе, водрузил, со стула чуть не свалившись, картину на место и вымыл руки: как бы с пылью готическая тайна к ним не прилипла, а линия жизни, с руки соскочив, в этот дом не проникла. Подумал: что и требовалось доказать. Теперь и за мистический триллер можно садиться. Будет потеха. Представил радость издателя: наконец-то! – Теперь не грех нам и выпить! – Не рано ли? – В самый раз. Коньяк, заметьте, настоящий, французский. – Тогда позвольте тост предложить. – Позволяю! – За лучшего издателя! – За лучший мистический триллер!
Почти в каждом доме, почти в каждом дворе этого малого закутка под горой, крошечного посёлка, на огромномасшабной карте мелким пятнышком обозначенного, оседлом таборе на окраине города из двух-трёх десятков домов жили собаки. И простодушные и себе на уме. У всех были будки, обычно у входа, но там они не появлялись, тем более – скажете тоже – на цепи не сидели. Собаки жили в домах с удобной мебелью, которую с детства были приучены, не дай Бог, не грызть, для этого есть игрушки, среди которых бесконечно любимые. Их лай, бесцельно бессмертный, как ни тщился преодолеть, упирался в предел времени-пространства, отведенный вечностью и муниципалитетом. Они не лаяли на эпоху, даже на судьбу свою собачью не лаяли, они просто лаяли от всей широкой собачьей души, ведь только так могли выразить восхищение таинством бытия и стремление победить неизбежную энтропию, постоянно грозящую ценой жизни не одного поколения завоёванный космос в первобытный хаос несотворённости обратить. О, как лаяли эти интеллигентные псы, когда их хозяева спорили о том, что должно чему подражать: искусство жизни, или напротив. Вслед за хозяевами воспитанники лучших домов до крови грызлись за право обладания истиной. Вертер был откликом на самоубийства немецких юношей от неразделённой любви – лаяли последователи Аристотеля. Самоубийства юношей были откликом на явление Вертера – возмущались противники. Бывало, в лае так расходились, что по швам реальность трещала, материя корчилась, скукоживалась и в конце концов разрывалась: в прорехах сверкали грозовые росчерки иного более праведного бытия. Распознать! Проникнуть! Увидеть! Но миг – зарастали прорехи, похищенные чёртом луна и солнце на свои места возвращались, всё на круги свои обращалось, собачий лай скрещивался с человеческими словами, петух пронзительно пел, звенел будильник тому, кому следовало вставать, мыться, завтракать и ехать на службу на велосипеде или на резвом, прекрасно объезженном жеребце. Собаки были из хороших домов: адвокатских, университетско-профессорских, врачебных и даже одного звёздно-футбольного, польстившегося на уникальную престижность подгорного околотка. Как проник, какими волнами сюда он прибился, достоверно не знали, но громкая музыка из футбольного дома думать очень мешала, и за это собачья общественность воспитанника этого дома-изгоя презирала и в свой круг рычанием не допускала. Особенно отличались в травле футбольного пса его соплеменники из трёх очень известных в округе домов. Один – рецензента не написанных книг. Другой – рецензента не написанной музыки. Третий – рецензента живописных работ, разумеется, не написанных. Нет нужды добавлять, все рецензии из этих домов выходили исключительно убийственные, их целью, как злые и не только языки утверждали, было не написание рецензируемого. Страннопородистые, они друг друга знали прекрасно, ссорились, дрались, вместе росли, никогда не брехали, исключительно лаяли всегда вместе громко и от радости, и от тоски. Все были друг на друга очень похожи, гладкошерстные, они отряхивались одинаково чрезвычайно лохмато. Прекрасно знали все уголки на улочках, мощённых брусчаткой в стародавние времена, фасады, балконы, лестницы, крыши под черепицей, они знали всё и гораздо лучше своих хозяев, точнее хозяек, которые почти все были преклонного возраста: мужья умирают, как водится, раньше, а дети в разные стороны разъезжаются, любимых собак с собой в неизвестность не забирая. Истых собачников, охотников до пород экзотически дорогих в посёлке не было, чужая собачья кровь сюда не проникала. Щенков раздавали соседям. Кому же ещё? Так что со временем местная порода сложилась. Все собаки были в ближнем или дальнем родстве. Неудивительно, что они друга понимали прекрасно. Можно сказать, лаяли на местном подгорном своём диалекте, границы которого были границами их собачьего мира, о чём применительно к речи двуногих сказал некогда великий философ. Когда кто-то из них, задыхаясь от приближения, лаял пронзительно, истошно, предсмертно, весь посёлок, душу собачью в последний путь провожая, подвывал, муку последнюю облегчая, соучаствуя в таинстве отделения бессмертной души от бренного хвостатого тела. А затем вся прекраснодушная рать отчаянно долго молчала: молчание ведь высказывание нередко самого сильного лая сильнее. Посёлок, почти сплошь заселённый сиротствующими вдовами, был не только хвостатым сообществом интересен, но вполне достоин пера точного, чуткого к особенностям его истории и географии. Дома отделялись садами, небольшими, однако достаточными, чтобы даже через открытые окна не тревожили ночные кошмары соседей. Ни одно движение не вершилось само по себе без деепричастных примесей и дополнений. Велосипед ехал, обязательно кустарник цепляя. Бельё сушилось, даже в безветрие развеваясь. Кошка громко мяукала, кота подзывая. Жаль, ни один писатель не родился в посёлке: извне его не постичь, не описать. С окрестностями и домом он вроде бы разобрался. Всё одно к одному. Подробно, но ненавязчиво. Хотя сюда бы вуайериста талантливого, много чего бы приметил. Без такого глаза, особо пытливого, чего-то недостаёт. Штришка слегка эротичного, точной отметины, вроде зарубок возраста на дверном косяке. Но даже приметив, ничего не услышать. Может, позаимствовать из одного текста мудрую крысу? Поселить за буфетом в гостиной. Правда, в буфете ничего нет съестного, ни конфет, ни печенья, давно всё на кухне. Только у хозяйки дома нет времени даже с крысой вне больницы общаться. Ничего не поделать, он, автор и друг, был и останется её общеньем единственным и в тиши дома, и в прозе смиренной. Перешедшего на прозу стихи оставить его не спешили. Писал, как и положено писателю эпохи высоких технологий, на компе, но, когда изредка приходилось, получал удовольствие от лёгкого скольжения букв по бумаге. Ещё бы, подражая великим, на полях лёгким пером греческий профиль, скользящие кудри или ножки резвые рисовать. Этого, увы, не умел, не пытался, чтобы не портить бумагу и настроение. Зато по старой, не изжитой привычке прозаический экран или бумагу рифмованными строчками украшал; те прозы немного стеснялись.
* * * Господь нам даровал желанья эвфемизмы – сливать слова и звуки сопрягать про чуждость смерти, но превыше – жизни, смерть не поправшую, живую благодать.
Её больные, беззащитность беззаботностью маскируя, умирали долго: недели, месяцы – успевала привыкнуть. Хорошо травматологам: несовместимая с жизнью – даже имени не запомнить. Хорошо бы иначе: жизнь, со смертью несовместимая. Поподробней: это какая? Посылка ничего, с деталями можно попробовать разобраться. Если главное решено, с остальным – лекарств нынче много, одно не пособит, другое попробуем, какое-нибудь да поможет. Чаще всего самое дорогое: за такие деньги не выздороветь никак невозможно. Причём поскорей! Сколько можно бешеные деньги аптеке платить! Ещё неделю назад привидение таяло, кровать вокруг себя расширяя. А теперь бродит по коридору, юных медсестёр отрешённостью от дольнего мира отпугивая. Того гляди завтра-послезавтра, накинув халат, не больничный – домашний, вылезет на балкон – больничный Бродвей, встречным о чудесном исцелении радостно сообщить. А потом цветы и конфеты – аллергию и диабет насаждать, жена, дети, внуки, с шумом домой: исцеление! Конечно, чудес не бывает. Зато бывает, что мать сына, а брата сестра, почти умерших, пропавших без вести и похороненных, свет в конце тоннеля увидевших, по эту сторону молитвой или заклинанием возвращают. Не всем матерям и сёстрам подобное удаётся, а отцам и братьям вообще никогда. Как случается? Почему? Вопросы сторонникам стирания гендерных различий адресовать. Те такое постигли, что это – семечки, сущая ерунда. Хотя, как ерунда может быть сущей, значит, и сущность может быть ерундой? Но всё относительно. Счастье полным, в отличие от несчастья, никогда не бывает. Спасли. Вылечили. Поставили на ноги. Следовательно, пришло время о дороговизне лекарств поскулить. Были же времена, когда всё аспирином лечили. Но у вас аллергия на аспирин! Ладно, не аспирин, но не за такие же деньги! Прекрасный скулёж! Великая музыка! Жив! Вылечили! Спасла! Гляньте, профессор, и следа не осталось! Вы молодец, доза, что говорить, рискованная. Но выскочил! Поздравляю! Случай надо бы описать! Через две недели успеете? Вставлю в статью. Очень к месту. Ещё раз мои поздравления. Кстати, новенькую поглядите, я в диагнозе не уверен.
Только через года полтора после знакомства свою книгу ей подарил. До этого две других успела купить и прочитать, ничего не сказав, спрятав, чтоб не увидел. В конце концов, в доме писателя и подруги писателя, как известно, о книгах не говорят, как в доме художника о картинах, в доме композитора о музыке, а в доме мясника о бифштексах. Подаренная была его первой изданной книгой. Называлась выразительно: «Фейк» – о парне, наделённом жуткой фантазией, способном придумывать новости, которые невозможно отличить от настоящих. Герой нарасхват. Выполняет заказы политиков и коммерсантов, не брезгуя ничем, главное – деньги, которые сами по себе его мало интересуют, тратить их лень. Единственное увлечение, вся жизнь его – фабрикация новостей, играющих всё большую роль во всех сферах жизни. Его новости обогащают, разоряют, от них впадают в депрессию и погибают. За ним начинают охоту. Появляются телохранители. Вот-вот обиженные и разорённые доберутся – несдобровать. В один прекрасный или ужасный день встаёт – ничего не может придумать. Заказ сгорает – горит репутация. Тянутся страшные дни. Срок истекает. День икс приближается. В голове ничего. Не только идеи – намёка. Ни малейшей зацепки. В момент, когда вот-вот наступит развязка, автор кинул, как говорят молодые, читателя. У парня сумбур в голове. В голове читателя хаос. А наглый автор подмигивает глумливенько: всё, бай-бай, до новых встреч. Поматросил и бросил. Это – сюжет. Кто он, фейковый гений? Фауст? Бог, на землю спустившийся всё поменять, порядки новые учредить, подлежащее ремонту исправить? Пришел, увидел, сделал дело – и восвояси, гуляя смело, к небесным делам воротился? Сюжетные перипетии её не очень задели. От страницы к странице затягивал ритм, замедлял движение слов, водоворотом крутящихся, пластающихся на бумаге линией, ведущей в пустоту, в никуда, посверкивая выдуманными словечками, неожиданными сочетаниями. Походило на стихи, без рифмы, белые, из серого мутного варева фейковой жизни растущие. Странная гармония, дисгармоничный мир соблазняющая. Конечно, кто почувствует, а кто не заметит. Кто соблазнится, а кому наплевать, пожалеет, заплатив за развлечение без конца. Как сказал один из героев-заказчиков гению фейка: ваш текст без конца напоминает секс без финала. Захохотал и заплатил не фейковыми деньгами, на прощанье хихикнув, сентенцию подарив: юный безудержный секс описывать трудно, но увлекательно, взрослый спокойный – нетрудно, но далеко не так интересно, а вы, воздержание посоветовав, и от того, и от другого изящненько уклонились. С задника глянцевой обложки автор смотрел молодо и прищурено на читателя: что, брат, облажался?! И впрямь, над всеми он посмеялся, и над героями, и над читателем, и над собой. И то сказать, изображённое очень на реальность похоже, ни дать, ни взять, обхохочешься. А может, смех этот, карнавал в аду, хохоток инфернальненький – фейковый тоже? Коль так, живой душе жить с этим никак невозможно. Кто-то сказал: жизнь есть требование от бытия смысла и красоты. Красота в его книге очень своеобразная, однако, была. А смысл? Какой смысл в фейковой жизни? А может, смысл книги – показать, что смысла… Запуталась. Может, достаточно красоты? Смысл и есть красота? Смысл: больные выздоравливают, по крайней мере, не умирают. И смысл, и красота. Из книги припомнилось: «и» – славный союз, соединяющий, человеков в людей объединяющий, прошлое с будущим связывающий, небо с землей единящий.
Когда вместе, стараются всё делать не торопясь, ведь в этом отличие совместного бытия от мотылькового существования одиночек. Раз в неделю вырываются из круговращения – вдвоём получается. Хотя зависимости один от другого и опасаются. Стремление человеков друг к другу – самая загадочная загадка, никакому Соломону не разгадать. И разгадывать ни к чему. Мир без загадок и тайн – скучнейшая машина, способная изломать всё на свете, ни о чём не задумываясь, ни о чём не жалея. Всё так, хотя с некоторыми неясностями собственного бытия смириться непросто. В этих рассуждениях есть толика тривиальности, старосветской, уютной, без которой жить слишком холодно: можно замёрзнуть. А в саду наслаждений тепло. Потому там тесно невероятно, попробуй сыскать укромное место – приют на двоих, то ли с видом желтеющим – на пустыню, то ли с зелёным во множестве оттенков – на не слишком высокую гору. И пустыня, и гора к их жилищам слишком близки. Окраины, пограничье. Его – с пустыней, с песком. Напасть, жуткое зло. Каждый день убирайся, не то занесёт. Представлял: на ночь оставив окна открытыми, крепко заснул. Проснулся – один нос над песчаной горой, перископ жёлтой лодки подводной. Лопатку купить и класть рядом с кроватью, если придётся откапываться. Рассказал – посмеялась, мне тогда нужен бульдозер. На случай, если через мой дом гора пойдёт к Магомету. – Если что, звони, угоню бульдозер, приеду откапывать. – Полагаешь, телефон будет работать? – Конечно! – Откуда уверенность? – Во что-то надо ведь верить, я верю в бульдозер. Бульдозер бульдозером, но пограничье обязывает. Хорошо ещё, что ветер – роза ветров! – обычно гонит городской мусор в пустыню. Если случается наоборот – сущая катастрофа. Ветер, надувая мешочки, несёт их на город, напоминая: город – причина, он – исчадие ада. Бесформенными птицами, медузами летучими, собираясь стаями, летит в тонкую оболочку заключённая бессмысленная пустота, живому губительная. Залетает в окна, носится по асфальту, застревает в ветках деревьев. Никакого спасения, разве что высотой до небес забор возвести, от пустыни отгородиться. Правда, тогда город сам по себе мусором выше крыш зарастёт. Эти белёсые сморщенные куски пустоты летят навстречу друг другу, сталкиваются, в разные стороны отлетают, чтобы стаями восторженно кружить у окон, над крышами, поднимаясь всё выше, где любые смыслы в голубизне растворяются совершенно бесследно, где опустошается сама пустота, чуткая к завыванию ветра, отличного здесь, у края пустыни, от того, у подножья горы. Всякий раз, когда не ветер времени, но ветерок пустыни буйствовал бурно и беспощадно, казалось, унесёт дома, дерзко поставленные на границе с пустыней, подобно тому, как море, обезумев от скуки, уносит прибрежные постройки, на щепки размалывая. Но рано-ли-поздно ветер стихает, присыпав песком, дома оставляя в покое. Под горой, в старом каменном доме слышны урчания, всхлипы, обрывки, клочки мелодии, распавшейся по пути, застрявшей в расщелинах, пропавшей в обрывах. Голос ветра пустыни с земли в небо восходит, спирально взвиваясь, все звуки по пути подхватывая, собирая, чтобы со всей силы оземь швырнуть – разлетится, снова собрать, взметнуть и так пока не иссякнет. В отличие от горного, голос пустынного ветра со стенами соревноваться не будет – обогнёт, оттолкнётся, толщей побрезгует, кичась способностью, для горного ветра совсем невозможной, страхи и надежды крепко-накрепко сплетать воедино, в могучий смерч, поднимающий в небо вместе с песком кусты и деревья, тупую боль и глухую надежду. Город – между голосами преграда неодолимая. Но иногда всё же встречаются и, ослабевая, сталкиваясь, бьются друг в друга, глупо и бесполезно пытаясь перекричать, на свой лад переиначить, чтобы всё на свете пространство было подвластно или голосу ветра пустыни, или голосу ветра гор. Понятно, ничего не изменится, побуйствуют – и утихнут, поорут – и угаснут. А в сапфировом свете будут шагаловские пары летать, жизнь города освящая.
* * * Зловещий день отпраздновав живым, Жестокий бред ночной днём солнечным врачуя, В верховьях памяти отчаянно кочуя, Плачу я дань: живую мысь за дым.
опубликованные в журнале «Новая Литература» в июле 2021 года, оформите подписку или купите номер:

Оглавление 1. 1 2. 2 3. 3 |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|

