Михаил Ковсан
РоманОбычная история жизни и смерти
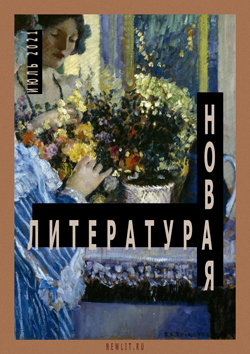 На чтение потребуется 7 часов | Цитата | Подписаться на журнал
Оглавление 5. 5 6. 6 7. 7 6
Земля вздрогнула, затрещало и загудело. Суша обнажилась до горизонта, понеслась волна, нахлынет – сметёт, искорежит, всё уничтожит. Побежало, полетело – в поисках убежища. Выжить! Безумцы ринулись вслед за уходящей водой. Чтобы не выжить? Чтобы больше никуда не бежать? Светало. И поднималось юное, чистое, беззащитное. Поднималось в золотистое свечение облачённое, лучистое, пока ещё вечное. Под ногами земли почти не ощущалось, невесомо ввысь восходило, ширилось, в стороны руки протягивая. В надежде мир заполнить собой? В надежде принять в себя этот мир? Росло, силою наливаясь, полнясь жаждой познать, поражаясь величию, стремясь собой удивить. Поднялось, тяжесть земли ощутило, уверенность обрело. Улыбка появлялась нечасто. Она нужна миру?! Мир нужен ей?! В сумерках добро от зла неотличимо. Темнота всё покроет, и рассвета больше не будет. Не вечное вспыхнет и поглотит, земля покроется травою забвения. За окном тихо, солнечно, ясно. Все осколки, обломки упали – и небо, вспыхнув вороньей картавой сумятицей, очистилось, ни дымки, ни облачка. Всё, что должно было взорваться, уже взорвалось. Голос самолета прервался, рассыпался и больше никогда не зазвучит. Слова прервались, на звуки рассыпались и рассеялись по земле. Слепые безумцы порадовались, погалдели и, уставшие, замолчали. Но это было в будничном времени, а их время шло, никуда прошлое не уходило, никаким быльём не порастало, но длилось, не начинаясь и не кончаясь. Оазис во времени, чужом, пустынном, безжизненном. Голубоватая живая вода, тёмно-зелёными пальмами окружённая, среди жёлто-коричневой мёртвой песчаности бесконечной. Сюда всё живое утолить жажду сходилось, сбегалось, слеталось, и Нарцисс, безлюдным пустынным одиночеством оскорблённый, приходил жажду красоты и тщеславия утолить, полагая в том смысл бытия, с которым было мучительно расставаться. И то сказать, цветок бесспорно великолепен, но кто догадается его через всю пустыню к оазису принести, к голубоватой живой воде поднести? Только красоту чтящий мудрец на такое способен. Где такого сыскать? В восточном крыле больницы – родильное отделение. Там рождалось больше мальчиков, если дело было к войне, и больше девочек, если дело шло к миру. Её отделение – в западном, там всегда мужчин и стариков умирало больше, чем женщин, старух. Некоторые мужчины, как её полковник, до возраста болезней не доживали. Такова статистика, и сколь бы лжива по природе своей ни была, с ней не поспоришь. Замкнутый круг рождения-смерти. Её профессор любил подобные фразы, от которых, как он выражался, за версту разило бессмысленным философствованием. Нередко эти его упражнения вспоминала, когда попадались писатели – самые трудные пациенты. Воображение и фантазия их уводили туда, куда всеми силами их не пускала. Изо всех сил держала от края подальше, куда заглядывать тянуло магнитом, нередко бывшим сильней самых сильных лекарств, в иных, не писательских случаях, в отсутствие разрушительного воображения способных творить чудеса. Направить бы воображение от бездны в обратную сторону; но это не удавалось. Разговоры с психологами разных школ ничего не давали. Между теми, кого воображение к бездне тащило, и теми, кто смиренно о ней пытался не думать, было необъятное многообразие, то к одной стороне, то к другой приближавшееся. Пыталась у классифицировать – не получалось. Пыталась нечто общее спроецировать на реального пациента – получалась несусветная чепуха. До поры до времени о своих попытках профессору не говорила. Какой смысл чепухой морочить голову старому человеку? Не говорила, теперь и не скажет. Конечно, можно поговорить, посоветоваться с кем-нибудь из своих, только вряд ли кому-нибудь из коллег её рассуждения покажутся интересными. В её поколении, тем более идущем за ними, верили только в лекарства, остальное относя к феноменам, ни изучению, ни обобщению не поддающимся. Силён мужик – за волосы себя вытащил из трясины, ну, и мы всем, чем могли, помогли. Так обычно резюмировался случай, когда уже мёртвый, перестав умирать, всем на удивление оживал. На её языке это значило: силой воли от бездны себя отодвинул. Как удалось? Чем взял? Сто человек в этом случае давно бы ушли, исчезли в тумане, за перевалом пропали, а этот сумел и через перевал перемахнуть, и туман рассеять, и назад воротиться. На эти вопросы она и стремилась – увы, безуспешно – ответить. Видно, ответы были спрятаны там, в дальней комнате дома, в огромном металлическом сундуке, на дне которого среди всякого сора лежала шкатулка, ключ к замку которой потерян, надо его отыскать, шкатулку открыть, а там… Кто-то в детстве рассказывал, или сама сочинила, не помнила, знала лишь, что эта комната в доме порождает особое чувство. Заваленная старьём никакого желания зайти туда не вызывает, её не зовёт, взаимной неприязнью отвечая. Лихорадочные попытки за хвост скользкую, может быть, не существующую истину ухватить, разумными было назвать никак невозможно. Соглашаясь, их разумными не считала. Просто бросалась вперёд, когда казалось: забрезжило, серебристо чешуйчатый хвост на миг над водой появился. В трудных неясных ситуациях слышала голос профессора: люблю всё понимать. Было страшно в тех случаях, когда понимала, как развивалась ситуация, и что в дальнейшем, но, не найдя способ прервать развитие, не сумеет выбить хотя бы единственное звено в цепи смертельных событий. Заигрывая со смертью, в разные стороны её увлекая, всякой всячиной соблазняя, могла срок её торжества отдалить, но ненадолго и порою такой ценой, что мучительно надо было решать: стоит – не стоит. Вспоминая решения профессора, системы в них не нашла: не оставил в наследство ни ключа, ни отмычки. Радостно потирая руки, звёздного часа дождавшись, синоптики, словно явление марсиан предсказав, объявили ночью цунами: гроза, холод, ветра, снег, одним словом, нашествие. Их ковчегу, цепко сросшемуся с горой, ничего не грозило. Конечно, скорые, буксуя, едва будут тащиться, вертолёт, что бы ни случилось, не полетит. Но больничным ничего не грозит: в случае чего, даже электричество будет не проводное – своё. На торжествующих синоптиков, сеющих панику, руки чесались, но их можно понять: в центре внимания бывали один-два раза в году, греясь в лучах, если не славы, то точно – внимания. Больные нервничали. Казалось бы, своего – в избытке, по горло, что им погода. Но нервничали, страх ничем не унять. В такие дни профессор оставался в больнице, дежурного врача домой отпуская. Больных успокаивало. За вечер переделала массу мелкого, откладываемого изо дня в день до часа, когда надо в спешке будет решить, написать, позвонить. Обойдя палаты, поговорив с теми, кто любил поговорить, помолчав с теми, кто любил помолчать, убедившись, что всё по крайней мере внешне спокойно, попросив принести себе чаю, выглянула в окно: было спокойно, цунами обрушиться не спешило. Села за стол. На вечер назначила прочитать две статьи из тех, которые откладывать никак невозможно. Без их учёта её работа могла показаться не состоятельной. Надо найти явные или скрытые возражения методу, который она вслед за профессором развивала. Авторы были оппонентами, даже соперниками, с которыми надо спорить, доказывая правоту. Чего в эту ночь ей хотелось меньше всего; совсем не хотелось. Подошла к окну. Прищурившись и фантазию проявив, можно кусок её крыши увидеть. Конечно, не в такую погоду. Набрала в интернете имя писателя, что в последнее время делала часто, узнавая то, что иначе узнать не могла: в литературные дела посвящал не слишком охотно. Напала на два новых совсем крошечных текста. И прочитала.
Нет, не удивляюсь. Проснусь, потом удивлюсь. Тому удивлюсь, что не удивлялся. Может, чувство удивления, вообще, снам не свойственно? Нет, не так. Ведь удивляюсь тому, что он, хоть на руку опираясь, почти свободно идёт. Таким даже в начале знакомства он уже не был: шёл, тяжело переваливаясь; не говоря уже о конце. И ещё не удивляюсь тому, что никак не называю. Зачем? Не из кого выделять. Может, человек снящийся имя теряет? Во сне оно ему ни к чему? Идём, на руку опирается, но не тяжело, будто бы по привычке, ведь знаю его только таким, опирается, чтобы во сне не ошибиться. Ни лица, ни голоса, ни гривы седой – ничего. Как же знаю, что он? Не знаю, как знаю. Но знаю. Идём, не удивляюсь тому, что он вдруг явился. Столько лет не являлся – и вдруг. Кто только не приходил, а его, из близких ближайшего, из желанных желанного, не было никогда. Может, не звал? Но разве в сон призывают? Наяву едва ли не каждый день вспоминаю, вопросы ему задаю, а во сне не являлся. Идём, в пространстве перемещаемся, а оно – совсем без примет. Ни дверей, ни окон, но откуда-то знаю, что коридор. Ещё после сна удивлюсь, почему не дома, не у стола, не у кресла? Есть ли ещё кто в этом пространстве? Не знаю. И времени нет. То есть, понятно, что есть, не одновременно же всё происходит, но ни единой приметы: то ли день, то ли вечер. Может, приметы никому не нужны; вот, их и нет. Может, во сне место пустяшному не назначено? Если так, то явь ради снов и дана, подобно тому, как зло – ради добра.
Кто бы мог подумать, что именно здесь, в центре огромного города, настоящий скит, тихое пристанище удастся найти. Впереди – кафедральный собор христианский, справа, по улице от площади вверх – хоральная синагога, слева и вниз, за углом – главная городская мечеть. Впереди – звон колокольный, слева – крик муэдзина, справа от меня – тишина. Во всех местах есть святые, они друг на друга очень похожи, немногословны, неспешны, внешне невзрачны. И то сказать, ангельская внешность бывает только у дьяволов. Но большинство везде тех, кто скелеты в шкафу выдаёт за мощи святых. Впрочем, большинство – люди счастливые: в отличие от святых, никто из них не ведает, что умрёт. Кто бы подумать мог, но чудо свершилось, Господь, как пророку в древние времена, куст мне послал. Терновник – кустарник колючий, смокв с него не собирают, и в огне, не сгорая, он не горит. Хотя, кто знает, может, однажды и мой терновый куст запылает, явление Господа возвещая. Терновник хорошо защищает от друзей, с которыми когда-то расстался, и от врагов, которые всегда тебя ищут. Уже много лет здесь обитаю, и, если бы, не дай Бог, ослепнуть, потерять обоняние или разучиться различать между зноем и холодом, между сушью и влагой, я только по чередованию шума и тишины распознавала бы времена года, чередование ночи и дня, праздники, шумные и веселые, отличала от дней будних, тихих и скучных. Больше всего я люблю раннее летнее буднее утро, вот, как сейчас. Ещё не жарко, уже не темно, не шумно – ещё не проснулись, да и позже будет не слишком: не праздник. Больше всего праздники не люблю, тогда глумливая площадь любой боли чужда. И очень не люблю позднюю осень: зарядят дожди, и с ними одни за другими похороны зачастят. Конечно, многие стремятся взглянуть: что там, под кустом, но мне это не страшно, за долгие годы с кустом и землёй панцирь мой слился, а может, куст и земля с панцирем, это не важно. Можно сказать, что, этот куст отыскав, второй панцирь я обрела. Первый Господь сотворил, второй я сама. Они у моего куста появляются часто, люди, собаки, кошки и даже иногда забегающие в город шакалы, писают и целуются, обнюхиваются, друг друга по-разному познают. Но куст меня защищает, куст меня бережёт, чужого неосторожного он уколет, а бесстрашного злонамеренного может и покалечить. Только таких на моем веку не бывало: даже разочаровавшийся в жизни и тот предпочитает с ней счёты покончить целым и невредимым, со всем доступным комфортом. Не одари, Господь, счастьем: за ним следует горе. Не все такое выдерживают. С ними, со всеми я обитаю в едином пространстве. Но живу с каждым из них в разном времени. Пространство – на всех одно, но у каждого своё время. Для меня с годами дни тянутся медленней, а годы летят всё стремительней. Как у других, я не знаю.
Принесли чай. Отхлебнула. Цветочный. Непонятно какой. Почему и это называется чай? Профессор любил точность в словах. И это от него получила в наследство. Пора готовить конференцию к годовщине. Сделать, чтобы от прежних, тех, что при нём, отличалась как можно меньше. Хотя одного точно не будет: крушения от единственного вопроса. Профессор умел одним вопросом вышибить негодную ножку у стула. По поводу конференции предстоял разговор с руководством: бюджет, сроки, организация. Но главная затыка была, конечно, не в этом. Всю свою жизнь прожил он в странной клетке – в прямоугольнике, стороны которого до поры до времени были прочны, во время оно установленные без единого слова сговорившимися учредить эту фигуру. Профессор жену, его любившую, не любил. Любил жену друга, любившего её, которого она не любила. Друг – историк еды, писал кулинарные книги, никогда ничего не готовил и был популярен до читательского изнеможения. Жена друга был певицей песен разных народов, предпочитая восточные, кулинарному мужу в популярности не уступающей. Жена профессора была известной скрипачкой, гастролировавшей до известного возраста почти беспрерывно. Наименее известной и менее всех оплачиваемой стороной прямоугольника был сам профессор, вокруг которого сыр-бор и вихрился. Прямоугольник этот из любви-нелюбви в юности зыбкий, шатавшийся часто, просуществовал почти полстолетия. Друг умер. Со своей расставшись, профессор к жене, теперь вдове друга ушёл, хотя официально не развёлся и не женился. Всё происходило вдали от чужих глаз, бесшумно, по двусемейной традиции почти бессловесно. Теперь мужей в прямоугольнике не было, собственно, не было и его самого, сменившегося сперва треугольником, а теперь бог знает чем, скорей всего прямыми не параллельными до бесконечности. Вопрос: что с этой геометрией делать? Кого звать на конференцию почётной вдовой? Первую? Почти пятьдесят лет – вовсе не шутка. Вторую – любимую? Первая – жена, но он с ней последние годы не жил. Со второй жил, но она не жена. Ту или другую? Обеих? Он и какая из них? Или: он и они? Посоветоваться ни с кем невозможно. Решать только ей. А если скандал? Представила: скрипачка играет, ну, скажем, Моцарта или Вивальди, певица поёт, классика против песен разнообразно народных. Столько лет жили тихо и мирно, а тут вырвется пар – разыграют страсти по Достоевскому. Святых выноси! Только где для начала их взять, не страсти – святых? Получается. Первую позови – вторую обидишь. Вторую – первой такая немилость за что? Позвать обеих – как посадить? По разные стороны? Слишком неуклюже демонстративно. Рядом – как бы чего не случилось. А как объявлять? Первая жена, годы служения! Вторая жена! Глупо и гадко. За что такое профессору? А ей за грехи какие? Господи, от великой мудрости малую толику удели! После конференции положен торжественный ужин, нешумный банкет. Все важные события человек с древних времён отмечает едой. Блюда меняются. От свежей мамонтятины, мидл прожаренной на костре, до, не споря с зелёными, фуа-гра. Будет повод прабабушкино ожерелье надеть: жемчуг надо спасать, не востребованный и не взлелеянный кожей он умирает, таинственный внутренний блеск угасает. Некуда деться: и здесь надо спасать, по крайней мере, неизбежное отодвигать. Неплохой повод для конференции: ради банкета и ожерелья. И ради прабабушки, которой было б очень приятно, что появилась в её ожерелье. Что знает о ней? Что их связывает, кроме этого ожерелья? В передрягах, переездах, пертурбациях времён и народов – до дома под горой не дожила – даже изображения, портрета, фотографии, ничего не сохранилось. Всё потерялось, изломалось, проелось с единой целью – жить, выжить, продолжить существовать. Господи, ведь имя её вспоминает с трудом, впервые встретив на древе семейном. Больше о конференции думать ей не хотелось; как, вообще, ни о чём. Хотелось домой, чтоб уикенд под горою, чтобы плохая погода, чтобы чай известно какой, не цветочный, чтобы горел камин, потрескивали дрова, чтобы думать не надо, что камин надо чинить, искать, кто это сделает, существуют ли ещё мастера, чтобы не думать, где взять дрова. Кто будет думать об этом? Писатель? У него в голове не поместится, а если поместится, то перемешается так, что никто в его тексте ничего не поймёт. Её полковник, выйдя на пенсию, всё эти проблемы спокойненько бы разрешил. Никого бы не звал. Всё бы сам починил, чистя сад, спилив отжившее, на поленья бы его расчленив, топил камин угасшим миндальным деревом или вишнёвым, которому напоследок выпало красногубым огнём плодоносить. Если бы дожил до пенсии, был бы хозяином, как отец, стараниями которого даже годы спустя после смерти дом этот держался. Отец тщательно и умело всё со всем связывал. Дом с садом, сад с пустырём, пустырь с дорогой, ту с городом, с его путями, разъездами, мостами, проспектами, улицами, переулками, которые знал наизусть: долгие годы был заместителем мэра, ответственным за дороги. Смеялись, что на всех выбоинах он от злости подпрыгивал, владения свои объезжая. Сущая правда, выбоины и ухабы в его картине мира отсутствовали, и он не желал, чтобы самочинно и самозванно они, бабьими вульгарными голосами визжа, в неё проникали. Его любимое детище – мост, изящно играя канатами-струнами, над головами парящий. Украшал чем только мог, подсвечивал ночью, злился на активистов, у которых в голове было по одной извилине – экологической, умудряющихся несуразные плакаты свои, нарушая гармонию, к мосту присобачивать. Когда активистов и плакаты снимали, полиция его на пушечный выстрел не подпускала: как бы чего не учинил. Из категории людей, которые всё, что ни делают, делают хорошо. То ли само собой абсолютно всё у них получается, то ли берутся только за то, что получится. Неважно. И последнее дело, которое задумал, исполнил успешно. Два раза тонул и два раза хватило сил и решимости до конца бороться и победить. На этот раз боролся и победил надвигающееся унизительное бессилие. Так же упорно и тщательно, как городское пространство, воедино связывал поколения предков, возводя начало семьи к врачу из северных стран, похоже, диковатой Германии, перебравшемуся к теплу, в Испанию в века ранние средневековые. Очков не носивший, одним глазом дальнозорко, другим близоруко смотревший на мир, мучительно глазел на лакуны в семейном древе, пытаясь заполнить, держа плотно в узде спасительно соблазнительную фантазию. В гостиной, куда редко она заходила, напротив двери с противоположной стены на входящего маленькая девочка с огромным бантом и флейтой, плотно прижатой к губам, смотрела пристально и слегка настороженно. Она помнила, когда отец фотографировал, она помнила, когда огромную фотографию в раме вешал на стену. Не помнила, куда делась флейта. Под портретом стоял огромный старинный обитый коричневой кожей диван, который по преданиям был старше этого дома и на котором родилось и умерло не одно поколение её предков. Дом многажды пристраивался и перестраивался, давно потеряв первозданную многозначность и превратившись в сеть перепутанных смыслов. За ними и следовал смертный диван, пока не очутился до времени или же навсегда – кто это знает? – здесь, в гостиной под фотографией с флейтой, иногда холодными звуками прошлого напоминавшей ей о себе. Наискосок от банта и флейты висело семейное древо. Когда появлялась в гостиной, оно било в глаза, напоминая, что, начавшись врачом, их семья врачом завершится. Круг замкнётся. Гармония будет достигнута. Грехи будут искуплены и прощены. И никакой смерч, никакой торнадо, никакое цунами никому из их семьи больше не будут страшны. Да и чем кого можно теперь испугать, после того как, узнав о неизлечимости, отец вместо активистов без всяких плакатов взобрался на мост, которым очень гордился, и, сжигая мосты, шагнул туда, где все круги замыкаются, все узлы тщательно навечно завязываются. Ночью мост, вспыхивая ярким пронзительным светом, горел безудержно весело, затем на миг погружался во тьму, как ей казалось, напоминая о бесконечно метафоричной человеческой мотыльковости; ей, заносчивой, подавай латы воина света, выходящего на бой с наёмником тьмы: «Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет?» Всё в жизни, как у бешеного Достоевского, вдруг, особенно самое ожидаемое. Старики уходили медленно, уходили в себя и вдруг не возвращались. Молодые умирали стремительно, рвались наружу и вдруг падали в бездну. А мост, отделяя от сущего должное, тьмой и светом играя, словно внеземным цивилизациям посылал, не родным, хотя бы троюродным братьям по разуму, посильный сигнал: мы ещё живы, чего и вам, братья и сестры, желаем. Закрыла глаза и увидела в который раз вдруг, как затягиваемый в воронку времени, где только прошлое, он не падает – вверх к вершине, где струны-канаты сходятся, завязываясь воедино, возносится, чтобы, достигнув, всё со всем прочно связав, Икаром, наказанным солнцем, исчезает внизу, где никто его никогда не найдёт. В последнее время в этих видениях являлся вслед за возносящимся и исчезающим то освещённый ночным светом размытым, то пропадающий в темноте ангел смерти, за падающим вверх нестерпимо, мучительно долго следовавший неотступно, в нужный момент расторопно рядом являвший себя, ловко выхватывавший из мёртвого тела душу трепещущую живую, и, обвившись вокруг неё, собою от бед и несчастий её защитив, взвивался, из поля зрения исчезая, пылинки следа не оставляя. Она слышала город: автомобили, трамваи, автобусы, всё шипело, шаркало и гремело, и сквозь это – пронзительное молчание, которое жизнь надвое перерубило. Она слышала, как шуршит воздух, сквозь который несётся сперва ввысь, затем вниз; последний грохот, мокрый шлепок о землю стремительно приближался, но усилием воли она его оттолкнула, в ушах зазвенело здешним, посюсторонним. И на этот раз удалось, смогла, последние звуки сумев не услышать. Вместо этого отчётливо звучал папин голос: «Я жить калекой не буду». Без нажима, без пафоса, голая констатация, очень понятный факт неприкаянный. В той ирреальной реальности она не видела ничего. Она её отчётливо слышала. Пока приехали скорая и полиция, которых кто-то из увидевших вызвонил, над пятном, краями растекавшимся на асфальте, не экзотический ворон, тем более белый, но обыкновенные вороны летали, неверморствуя оглашенно. Собрали и увезли. Ничего этого не видев, каждый раз, когда накатывало, видение подавляла. А «собирать» возненавидела, вздрагивая, когда при ней произносили. Канаты-струны, понятно, не дрогнули, по-прежнему вознося и воспевая. Обычного опознания не было: нечего было опознавать. При нём было удостоверение, аккуратно завёрнутое – не повредить. У полиции и медиков не было особых хлопот. Рутина. Работа. Создавать проблемы другим не любил. По этому мосту ездить она не могла. Беда, он был на одном из наиболее необходимых для её жизни путей. Долго искала пути объездные. Нашла нечто совсем несуразное по улочкам, переулкам, кочкам и тупичкам. Так что, когда припекало, вцепившись в руль, въезжала на мост, мгновения муки отсчитывая метрономно. Постучали, и дверь, помогая очнуться, сбивчиво проскрипела: – Пожалуйста, больному плохо, пожалуйста. Поднялась за сестрой. Оказалось, старик, которого про себя определила: полковник её постаревший. Зря не тревожил. Умирал тихо, спокойно, одиноко, очень достойно. Подскочило давление, сделала назначение, через полчаса всё было в норме, если в её отделении это слово было уместно. Подумала: здесь многие слова становятся совершенно чужими, абсолютно не к месту. Надо бы писателю об этом сказать. Что ответит? Вернувшись, сев к компьютеру узнать, что нового творцы погоды придумали, письмо обнаружила. Только пришло. В нём комитет по престижным медико-биологическим премиям сообщал, что её последняя работа номинирована на премию этого года. Событие вполне ожидаемое. Более того, судя по другим номинантам, вряд ли её премия эта минует. Из их больницы единственным обладателем этой премии за всю историю был её учитель, профессор. Дежурить по ночам она не привыкла. Точнее, отвыкла. Ни один молодой врач этой участи в дозах для семейной жизни нередко смертельной не миновал. Мелькнуло: её писатель от премии отказался. Одну из первых книг, оглушившую общество глумлением над вечными ценностями, как говорили недруги, беспощадной критикой язв современного общества, по утверждению другов, выдвинули на премию, которую молодым не давали. Считалась для убелённых сединами старцев, которые таковыми себя не считали и красили волосы, чтобы выглядеть помоложе. Однако по паспорту: старцы, а как выглядят, каковы их сексуальные возможности, дело личное, никому нос в чужие трусы совать не положено. Одним словом, хай поднялся невообразимый: за что и кому? За то и тому! Его имя в сваре до нарицательности затрепали. Тут как раз пара крашеных старцев из комитета по премиям этому иной мир предпочли, и выжившие с превеликим удовольствием свою правоту убедительно доказали. Объявили. Дату церемонии утвердили. Певицу и арфу позвали. Созвали почтенную публику. Удостоенный, отказавшись быть удостоенным, с достоинством и степенностью, чего от скандалиста не ждали, от премии письменно в выспренних словах отказался. Одни сочли отказ актом гражданского и писательского мужества. Очередным глумлением посчитали другие. Представила зал. Полон. Звуки арфы и меццо-сопрано возносят премию с лауреатом до небес, и оттуда… Этого допустить не могла и проснулась, чтобы через несколько минут вновь задремать и увидеть, как оксюморонно прекрасная крыса снуёт между львятами и черепахами, миг – и они, сошедшие со стен и с крошечных пьедесталов, кружатся в медленном танце: черепахам трудно биться всем телом в бешеном ритме, как того бы львятам хотелось. Те, отношениями с черепахами дорожа, прыть усмиряя, помогают им поднимать тяжёлые лапы: черепахи, в отличие от резвоживущих, к канканам совсем не привычны. Подумалось: наверное, крысе, львятам и черепахам, так же как ей, вдруг на миг взбрело выскользнуть из почти готового текста, напоследок, немножечко подурить. Ощутила: с этого мгновения о писателе она знает всё. Кто и что ей сказал? Знания не копились, не множились, и вот – знает всё? Вопрос показался настолько ненужным, глупым, наивным, что время на ответ тратить было попросту унизительно. В конце концов, всё и есть всё: ни прибавить ничего, ни убавить, расчленению не подлежит. Из всего – одно, из одного – всё. Кто это сказал? Не она задала вопрос. Задал он, как всегда, едва заметно высунувшись из-за текста. Спросилось – подумалось. Подумалось – и проснулась. Видно, мысли и сон суть вещи никак не совместные. Раскрывает глаза. Компьютер мерцает. В отделении тихо. Дождь осторожно, неприкаянной мышью в окна скребётся. И возвращаются крыса, львята и черепахи, но теперь не одни, с ними подлинное веселье, истинный карнавал: колосс, кулисы и Калиостро, а затем – круиз, Карузо и картуз набекрень куртуазно.
Срок сновиденьям жестоким, и срок ласковой, милой дремоте.
Кишащим воды вокруг воскишели. Птицы полетели по своду небесному. Чудища огромные появились. Ползающие приползли. Звери из лесной чащи звонко возникли. Было так радостно и хорошо, что даже краснокнижные, за жизнь свою не дрожа, приползли, прискакали и прилетели, звонко в воздухе крылышкуя. Белый Клык и Холстомер, Бэмби и Моби Дик, Кот Мурр и Каштанка – все мёд пили и танцевали, веселились, пели, неуёмно амброзией угощались. И светлокудрая бледноликая девочка с дирижёрской палочкой в правой руке и не надкусанным краснощёким яблоком в левой дирижировала и хороводы водила. – Как зовут тебя, девочка? – Разве не знаешь? – Догадываюсь, но сама лучше скажи. – Зои. Взмахнула палочкой – музыка полилась. Подняла яблоко – веселье двинулось в танце, из-под ног взметнулись тучи сверчков, задававших ритм, воображение будоражащий. Стоп-кадры, выхваченные из этого пиршества жизни, были бы наверняка уморительны. Но разве можно жизнь на миг самый малый остановить, надругавшись, стоп-кадр учинить? Понятное дело, всё хорошо не бывает, даже во сне. Откуда-то шипело безлико, но очень разборчиво: – Этим устам не мёд пить – отраву смертельную. В ответ: – Лучше мёд с нами пейте, вкушайте амброзию! – Разврат! – Слушайте «Карнавал животных» Сен-Санса, радуйтесь и веселитесь!
Синоптики перестарались. Был дождь, но не потоп, было холодно, но не стужа, снег таял, до земли не долетая. Дождавшись, когда все сойдутся, провела обход и уехала спать. И машина без проблем завелась. К тому же дорога была совершенно пустой. За три минуты доехала осторожно, не торопясь. На дорожке была масса медленно ползущих, слизистый след оставляя, улиток. Глядя под ноги, тщательно обошла, в унылые львиные морды уткнулась. Она была дома. Львята, повеселев, не пустое жилище – её охраняли. Вспомнила его холодом пронзающий текст. Герой, спасаясь от жизни, от смерти, жил в каморке с верною крысой, которую за тортиком в кондитерскую посылал. Время и место, угадываясь, в дымке скрывались, словно дверь в ад или парную приоткрывалась. В отличие от её представлений о писателях, он людей не коллекционировал, даже, можно сказать, сторонился. Как-то решилась, спросила и натолкнулась: «Люди мешают к человеку относиться пусть не с уважением, хотя бы нейтрально». Вспомнила и, испугавшись крысы устало премудрой, ключ в замке провернула, дверь распахнула уверенная, что полчище крыс, крысят и крысёнышей набросятся на неё. Вошла. Крыс на удивление не было. Оглянулась по сторонам: может быть, не заметила. Камин холоден. Зато в спальне тепло. После бессонной ночи желанней всего отоспаться. Быстро легла. Не спалось. Думалось о том, если писатель умрёт, не будет и крысы – попросить в кондитерскую за тортиком сбегать. Пустыня жёлто-коричневой бесконечностью угнетала. Жёлто-коричневой бесконечностью пустыня спасала. Получалось: пустыня сама по себе ни при чём. Угнетала, ибо в ней зарождался мираж зелёной горы. Спасала, ибо в ней зелёной горы мираж зарождался. А восток и запад, пустыня с горой, однозначно киплинговски сойтись не могли; до Страшного суда по крайней мере.
Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet, Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat…
С первым романом сунулся к издателю, на тот момент очень известному, через десять лет роман напечатавшему, а тогда текст глянувшему и полную голову нагудевшему. Самоё смешное, многое из того было совершенно по делу. Ты пишешь, как пишешь, а надо, как говоришь. Пишешь паузами. Абзацем, а то и фразой одной толкаешь (поперхнулся) читателя к краю. Со всей силы толкаешь: смотри, что там, овраг или бездна, сам разбирайся. Тем временем ждёшь, что решит, что надумает. А тот думать не хочет. Конечно, тех, кто думать желает, ещё осталась сотня-другая на миллион. Но ты на них не рассчитывай: вымирают, на твой век не хватит. И зачем спешишь? Куда летишь, куда гонишь? Вяжи сюжет неторопливо, чтобы читателю тепло в него было вживаться. Ему с тобой должно быть не просто интересно – уютно. Сорвался с места – притормози, дай героям и читателю отдышаться. Не Достоевский – бить читателя по голове и бежать, по лицу кровищу размазывая. Все «впрочем» и «хотя» – к собачьим чертям. Не засоряй своей сложноподчинённостью, врождённой или не на благо приобретённой, романы о ней и о нём. То, что между ними случается, всем интересно. Остальное университетским профессорам отошли, старых пердунов бесплатно потешишь. И захохотал отрывисто, оглушительно, руками держась за живот – как бы чего от натуги не вылетело. И ещё. Норовишь писать то сложней сложного, то проще простого. Уймись, сложным отпугиваешь, простым унижаешь. И то и другое тебе не простят. Слишком много и пристально всматриваешься в себя. Соглашусь: многое можешь увидеть. Но попробуй оторваться и по сторонам поглядеть, немало, может, не слишком достойного, но любопытного. Короче, покрути головой, позабавься. Роман по объёму должен быть не большим, размером в старинную повесть, а то и в крупный рассказ. Пишут много, всего не прочитать, времени мало, на длинное не хватает. Так что покороче, полегче, воздушней, недосказанного побольше: умный сам всё поймёт, а дураки книг не читают. И, конечно, название. Оно решает, что книгу в руки возьмут. Но и потом не должно обмануть, на него сюжет обязан работать, напоминая: открывший книгу правильно поступил, не ошибся. Хорошо бы события перемешать: хронология нынче не в моде, она для тех, кто мозгами шевелить не умеет. Лучше всего идут детективы, триллеры и дамская проза. Но думаю, у тебя из этого ничего не получится. Хотя всяко бывает. Один профессор написал от имени не слишком умной девицы: прекрасно тираж разошёлся, овцы целы, и волк, заработав, в норе преспокойно кость науки грызёт. Может, и ты не побрезгуешь? Если, ха-ха-ха, след хочешь оставить, а не наследить. Получится – приходи. Он вышел от него, битлов напевая:
Dear Sir or Madam, will you read my book? It took me years to write, will you take a look?
До смерти мамы книжку издать не успел. На похоронах говорил, что она была очень красива. Такое было не слишком привычно, не слишком к месту, но он с детства банальности не терпел. На похоронах и за столом произносилось такое, от чего хотелось съёжиться, вжаться в себя, чтобы не слышать. Но разве по этим поводам можно говорить не банально? Поскольку нельзя, старался молчать, отвертеться пытаясь. Но тут пришлось говорить. Хотя хотелось постоять в тишине внимательной к самому невзрачному звуку, послушать, как мама молчит, в унисон своё молчанье услышав. Не для неё говорил – для чужих, приличия соблюдая: они пришли, приличия соблюдая, вот и он соблюдал. Жуткое слово. Говорил, понимая прекрасно: всем безразлично, о чём говорит. Говорил, что в детстве считал свою маму самой красивой. Какой ребёнок так не считает? Так всегда, от одной банальности увернёшься, чтобы, как под пьяное колесо, попасть под другую. Говоря, раздвоился, точней: языки раздвоились. На одном в пространстве прилипчиво пребывал, на другом простирался во времени. На одном языке произносил банальности, думая на другом, на котором по улице шёл, лет ему десять-двенадцать, жарко, на маме лёгкое голубоватое платье. Сильный ветер поднимает широкий подол, мама борется с ветром, ловит платье, возвращая на место. Ему неприятно, он злится на маму, на ветер, на что-то ещё. Снова порыв – и снова борьба. Так длится, они куда-то идут, останавливаясь для борьбы. Говорит, глядя поверх голов, над которыми горы и облака, отделённые, очерченные линией горизонта. Говорит, размышляя: рассказать о платье, и, если да, как передать детские гнев и восторг, на мгновение маму представив, её нет, но слово, миг – и увидели. Говорит, пытаясь представить, как скажет, чтобы увидели ветер, платье, чтобы сквозь пузырящееся пространство-время чужое, сквозь панцирь, охраняющий его невесёлую память, увидели. Нет, неверно, память весёлая, от слов пустых охраняющая, а вспоминает он, чтобы в смысл звучащих слов, натужно, искорёженно изречённых, не приходилось вникать. Мама была его охраной от смерти. Теперь он со смертью один на один. Как сказать, не нашёлся. Слова не сошлись. Диагноз был однозначен. Перспективы ясны. Надо что-нибудь делать, хотя ничего делать было не надо. Ждать? Суетиться? Вначале была суета, глупая, бесполезная. Потом ожидание, тогда, изнутри – бесконечное, извне, спустя – совершенно мгновенное. Чем время суеты-ожидания заполнялось? Обыденностью, текущей медлительно, бесполезно. Обычное время обычной жизни, которая заканчивалась ужасно обычно.
Некогда прочитал рассказ. Или притчу. Притчу-рассказ. О ней и о нём, друг в друга проросших. Потому название: «Он-и-она». Он подобное вряд ли напишет. Подобная слиянность ему чужда, непонятна, невообразима. Слиться с кем-то? Значит исчезнуть, пусть даже целое будет лучше, прекрасней его составляющих. Случалось, ненароком натыкались на твёрдое, в силу характера обоих непроходимое – слово за слово, вправо-влево не обойти. Камень преткновения? Отойти подальше, широкий круг заложить, а нет, то и, взмыв, перепрыгнуть. Миллион способов, столкнувшись, лбы не расшибить: не дети, за прошлую жизнь научились. А правота? Главная правота своей чужую правоту не калечить. Получается то же, но без дефиса: он и она. Наживут дефис? Или без него, прожив, обойдутся? Бесплодный, бессловесный, безмысленный день тянется бесконечно, возникая в пустыне светлеющей, в пустыне темнеющей угасая. Пережить его невозможно, единственное спасение – зажмурившись, перепрыгнуть: было – не было, жизнь продолжается, слова вокруг летают, только лови, мысли порхают, держи сачок наготове. А пока – смотреть бесконечно в экран или в окно, где что от безразличного однообразия забывая. Сегодня солнечный день и безумие. Как всегда. Сегодня пасмурный день и бессмыслица. Как всегда. Стая собак. На двух, трёх поводках. Огромная грязновато-белая, очень спокойная. Вокруг разные, мал мала меньше, крутятся, вертятся, лают. Это первая смена – отца. За ней смена матери, смена вторая. Под ночь – дочери, третья. Как они в скромной квартире с собачьей стаей, составленной из беспризорных, ими спасённых, дышат, едят, уживаются? Как-то ведь уживаются. Вот и пустые мёртвые дни с ещё живыми уживаются как-то. Грех жаловаться, накануне ловилось, сачок не был пустым. А ночь была скверная. Утром едва сумел встать. Ничего не поев, до кровати еле доплёлся: всё плыло, голова кругом шла, прежде чем плюхнулся, успел добавить про себя: от успехов. Смерть не в качестве абстрактного понятия к нему никакого отношения не имела, и одновременно то, что умрёт, было непреложностью, размышлений не вызывая. То, что его никогда больше не будет, в сознании не укладывалось и потому отгонялось до поры до времени, признать надо, успешно. Днём попытался подняться: вело во все стороны, мироздание вокруг него, потеряв устойчивость, как пьяные качели раскачивалось. Оставив дверь нараспашку, вызвонил скорую. Что-то вкололи, и по пути в больницу вернулось сознание: мутно, но соображал.
Темно, темно и холодно, дует, надо встать, закрыть дверь или окно, окно или дверь, почему так темно, надо открыть глаза или свет включить, холодно, дует, и рука свесилась, надо поднять, положить, но куда, зачем свесилась, посветлело, чуть-чуть, значит, утро, нет, не утро, сегодня уже просыпался, и впрямь, стало светлей, надо открыть глаза, что-то тряхнуло, и загудело, это сирена, почему она смолкла, ага, проехали перекрёсток, перед ним она загудела, распугивая, значит, день, и светло, не уже, а ещё, и это скорая, а в окне птицы, тени которых в небе плывут, а сами они летят по земле. И вот движение, и опять остановка, ну да, приехали, уложили и понесли, потом повезли, белый халат, разве можно с закрытыми глазами что-то увидеть, поднимешь голову и – лицо, снова тряхнуло, едет неаккуратно, или это муниципалитет виноват, или оба они, муниципалитет и шофёр, её отец умер, вот и про кочки забыли, и какие-то слова, трудно понять, разобрать невозможно, стихло, руки не поднять, что-то в руке, голову чуть поднять, капельница, трудно, не получается, опять сирена, медленно, вот и думать надо помедленней, тогда лучше получится, может, приехали, куда, а туда, куда скорые ездят, в больницу, но нет, снова едет, зачем останавливались, а затем, у-у-у, вой, кто-то воет, волки, волооко, вольная воля, воют, прибегут, псиной воняя, капельницу отгрызут, есть у них оружие, у везущих в больницу, как их там, Господи, называют. Как называют? Как их зовут?
Анализы были скверные: внутреннее кровотечение. К утру уняли. Подозрения были очень неважные. О возвращении домой речь не шла. Очутился в палате, где очнулся во время обхода. Проснулся и, ошалев, увидел её, улыбнулся криво и виновато. Слушала дежурного врача, его принимавшего, удивляясь тому, что уикенды и будни смешались, вероятно, время сломалось. Время, и правда, сломалось: он то проваливался под лёд, засыпая, то выныривал на поверхность, хоть и с запозданием реагируя на вопросы сестёр, не дававших в воде подо льдом в бесцветном безмолвии отлежаться; был уверен, что, отоспавшись, придёт в себя и не замедлит отсюда свалить. Скорая, анализы, и это тогда, когда стал подбираться к её воспоминаниям, проникать в извивы памяти, причудливые и таинственные, по сравнению с которыми все закоулки её диковатого дома были книгой, распахнуто раскрытой на месте самом затейливом и интимном. Себя искал в ней. И были эти поиски совсем не из лёгких. В её теле ему было ужасно слабо и тесно, словно пересел на машину с намного менее мощным мотором, хотелось резко рвануть – дудки, ползла мягко и медленно. В её мыслях, слишком прямых, где его извивались, и слишком извилистых, где его мысли были прямыми, путался, с огромным трудом, не вживаясь – если бы! – втискиваясь упрямо и по возможности осторожно. Там, где её было много, его не хватало, там, где мало, никак не влезал. Но, как никогда, был упрям, прокрустничая над собой упорно, безжалостно. Со словами совсем катастрофа. Почти все были те же, но выстраивались не обитаемо по-другому, любя-ненавидя друг друга непривычно увечно иначе. Как ни пыжился, научить по-своему примирять и ненавидеть, не получалось. И главное: назад как вернуться? Отгонял: авось, само собою случится, а сейчас – круженье над ней, вращение с ней, в неё проникновенье до снов, до затаённости, пусть себя уничтожая, пробраться. Её в себе, себя в ней ощутить, если вообще такое возможно, если такое бывает, если такое случается иногда. Что получается? Я должен стать не я, в неё обратиться, а затем, от нового я избавившись, в своё прежнее я возвратиться? Это поисками себя называется? Или писательские ужимки, нормальных людей не касающиеся? В её детстве и юности в этих горах жило игривое эхо. Бегало, прыгало, о тишину равнодушной вечности разбитым лбом колотилось. Теперь его нет. Ушло? Вывелось? В воздухе растворилось? В Красную книгу его! Только как неуловимо несуществующее описать? В одном из домов по соседству бесконечно долго свой век доживала во время оно крикливо известная поэтесса, доживала, похоронив всех мужей, двух сыновей и даже, кажется, внука, доживала, почти ежедневно помещая новые поэтические откровения на собственном сайте, имеющем множество подписчиков и поклонников, на них смотрела с нагловатым двадцатилетним прищуром, который сохранила и фотография старухи свирепого вида: ты, пацан/ка записался/лась в защитники флоры и фауны гор и пустынь? Не знали пацаны и пацанки, не ведали, что современным нормам свободной любви во многом обязаны ей, этой миниатюрно сгорбленной Бабе Яге, не только свободную любовь проповедовавшей, но и ярко и звонко её практиковавшей. Фотографы охотились за ней – уловить, запечатлеть, подловить, из миллионов моментов жизни её выхватить самый пикантный, самый продажный. Цель жизни тогда ещё не Баба Яга не искала, смыслами не жонглировала. На что они, если есть не убиенные временем стихи и любовь – дракон жутко витален, страшно живуч. В отличие от Бабы Яги, у которой вены тонкие, с огромным трудом иглой находимые, у дракона и вены драконьи, с закрытыми глазами найдёшь, спокойно коли – не промахнёшься. Неубиенные стихи и любовь. Неубиенное время, убивающее человека, который его убивает. Убийца времени? Убивать время? Чепуха. Как неубиенное можно убить? Или нельзя убить, убивать можно? Просыпаешься, глаза открываешь, лежишь, время идёт, а ты его, неубиенное, убиваешь. Глаза открыл – поразился: ад или рай? Как узнать? Как понять? У кого спросить? У отца? Его нет. Значит, у сына. Того нет тем более: занят. Чем? Убивает отца. Сын убивает отца, почему же она не спасла? Почему рядом не оказалось? Не взяла за руку. Не увела. Не заговорила, часто и мелко словами соря. Всегда её внимательно слушал, ни от каких глупостей не отмахивался; говорила бы себе, говорила, ничего бы не произошло. Она, стольких спасшая, не спасла? Глупости! Чепуха! Быть такого не может. Не может, но было. Было, хотя и не может. Или тогда потерялась? Себя потеряла – искала себя? Проворонила, ворон считала и просчиталась. Случилось. Где была? В какой комнате искала себя, от себя убежав? Очень трудно искать себя и в самой светлой комнате, если в ней тебя нет. Где была в тот единственный миг? Как где? Там, где они, нетранспортабельные, неоперабельные, нерентабельные. Пусть так. Всё равно значения не имеет. Имеет значение не где была, а где её не было. Контексты сгинут. Тексты останутся. В них всё слито, всё связано, словечко к словечку, рисинка к рисинке, как в удавшемся плове. И самость словесная гордая, и блюдо единое гармоничное. Так он, её писатель, сказал бы. Так она за ним повторит: сгинут – останутся. Таков сюжет. Такая вот притча. Вот, ею-то, притчей, и погнать себя-крысу не поганой, обычной метлой в лабиринт, в смрадное чрево сюжета, в брюхо рыбы Ионы, в нерождение, в несотворённость, откуда выбраться – только додумав до самого края, до бездны, ограждённой авторской волей свирепой от жизнью измученных, брезгующих дарами её, изгородью акульих зубов железо прокусывающих. «Скажите, я жив? Да? Тогда попытаюсь, кто я, сказать, если это кому-нибудь нужно, зачем-то необходимо». Кто это? Чей голос из бездны? За ним ещё и ещё: «Зрячий слепого слепей? Или слепой зрячего зрячей?» Что там у обездоленных в бездне? Эко пробрало их. Разболтались! Словно лаву вулкан, выплёвывают слова, огненные, горячие, пузырящиеся, не твёрдые – корень плюс остальное – жидкие, даже газообразные: без корня, остальное на месте, а тот – увы да ах, потерялся, обломился, в лаве горячечной растворился. Слово без корня? Гнусь. Пакость. Болотное зеленоватое вонючее бульканье. Это не шампанское весёлое светлое пузырящееся веселье. Это тяжёлые газы из утробы болотной невыносимо рвутся наружу, лягушачьему хору валторно настырно аккомпанируя. Чтобы от невыносимости гнусной избавиться, не грех и грех на душу взять – время убить. Если корни в нём исчезают болотно, безобразно, бесследно, бесстыдно, как дыхание в камере с откачанным воздухом, кому это время паскудное нужно? На что годно?! На что?! О! Никто не ответит. Никто в ответ ни звука не проскулит. А чего ожидали? Собачьей преданности? Благодарности пёсьей? За что благодарить? За что? За то, что позволили умирать? Конечно, иногда и это – милость и роскошь великая. Но, право, лучше бы убили, чтобы не мучить, как время убивали из грешного милосердия. Иначе? Осознавая трезвым умом, что осталось меньше, чем ничего, долго бы продолжали, тихонько под нос напевая, восхваляя перелёт Амудсена через снежно-недоступные Альпы. Ты только создан. Как все горы, Альпы чуть раньше тебя появились. Скучно. Тоскливо. Ты и Бог. Ты и Создатель. И всё. Сказал тебе всё. Больше не о чем говорить. Садовник из тебя никакой. Ни подрезать, ни окучивать, ничего такого делать неохота и не умеешь. И вот, проснулся: она. Теперь знаешь: не зря Он тебя создал. Дело за ней. Как известно, не подкачала. А сад? Да ну его! Глаза б не видали! В конце-то концов, ни человеку божественное вовсе не чуждо, ни Богу человеческое не безразлично. Как пророк Иезекииль в мистическом откровении подсмотрел.
Проходя мимо, увидел, и вот, твоё время – время любви, над тобой простёр Я крыло, твою наготу прикрывая, поклялся тебе, вступил с тобою в союз, – слово Господа Бога, – и стала Моею.
Ясно?! Ну, то-то!
опубликованные в журнале «Новая Литература» в июле 2021 года, оформите подписку или купите номер:

Оглавление 5. 5 6. 6 7. 7 |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|

