Михаил Ковсан
РоманОбычная история жизни и смерти
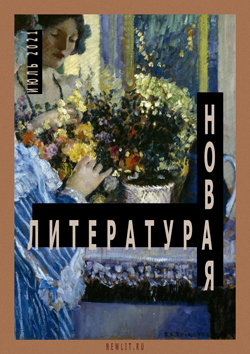 На чтение потребуется 7 часов | Цитата | Подписаться на журнал
Оглавление 6. 6 7. 7 7
Гора была изрыта пещерами. Некогда естественные они были расширены зверьём и людьми, которые в них обитали попеременно, вместе не получалось: не уживались. Проблемы с властью – пещеры заполняют повстанцы. Тихо, спокойно – зверьё возвращается. Но это в прошлом. Проблемы с властью решаются без пещер, а зверьё давно исчезло, вывелось окончательно, краснокнижники об этом в телевизоре и интернете рассказывают подробно и регулярно. Время от времени потрошители горы, археологи, в эти пещеры в который раз возвращались, мелкое едва сохранившееся зверьё изгоняли и пещерное пространство потихонечку расширяли. Самое смешное, что, копав-перекопав одно то же несколько раз, всё-таки чего-нибудь находили. Может, домовой, или как там гения пещер называют, посмеиваясь, всякий раз что-то подбрасывал? Или специально копали, заботясь о грядущих на смену. Если так, поступали весьма благородно. Когда, начиная сезон, археологи лагерь свой разбивали, ходячие и даже только встающие прилипали к окнам: в больнице и не такое потеха, а тут на глазах прошлое ворошат, землю просевают, артефакты кисточками нежно, ласково ублажают. Прошлое аккуратно размечено, на квадраты разбито, досконально расчерчено: ни пропасть, ни исчезнуть, ни ускользнуть. Монеты, амулеты, керамика во всём невообразимом разнообразии форм, в отличие от её пациентов, из материального мира не исчезают. Ну поцарапается, ну покорёжится, ну треснет – на это, ей не чета, есть реставраторы. В ясную погоду из своего кабинета с появлением археологов нередко видела овец на плоской вершине горы, пасущихся совершенно привольно под надзором юного пастуха и двух длинношерстных молчаливых собак. Овцам некуда разбредаться, да и зачем: травы довольно, а виноградники, гору террасами опоясывающие, им ни к чему вместе с юной красавицей, в шалаше обитающей, поставленной братьями семейный виноградник бог знает от кого сторожить. Понятно, свой виноградник красавица не уберегла, да и кто на такое способен при виде прекрасного пастуха. Он и она, пастух и сторожиха, встречаясь, никого не стеснялись; да и кого? Вокруг – ни души. Овец? Лоз виноградных, птиц, над счастливым миром парящих? И раздавался в горах призывный голос его, которому она радостно откликалась. И не скрывали он и она нетерпения, едва завидя друг друга, движение ускоряли, рубахи срывали, соединиться голо бежали, упав в траву, позы невероятные принимали – попроси повторить, поразились бы, на что были способны. Никто не видел их, потому не просил. А они, отлежавшись-и-отдышавшись, бегали друг за другом, чтобы не от усталости на землю свалиться, а, бело мелькнув несколько раз, в высокой траве затаиться до тьмы густой и опухшей, подобно рыбам, живыми вмёрзшим в лёд, чтобы, дыхания слив, самую мёрзлую ночь растопить. Не знали они, мальчик и девочка, ни сном, ни духом не ведали, что видит их из окна, археологами бог весть на какой глубине времён воскрешённых. Среди пациентов было немало вновь приходивших и опять уходивших, непонятно куда возвращавшихся, то ли домой, то ли в больницу. Эти были чрезвычайно чувствительны к слову до той поры, пока всё человеческое им чуждо не становилось. Особо внимали слову прямому, крупному, округлому, не мелко подробному, плотно пустоту заполняющему. Скорей даже так: не к самому слову, а его месту во времени: утром от него могла быть безмерная польза, вечером – вред ужасающий. Всякие чудеса в профессорском, теперь её отделении совершались. Не только мёртвые оживали, не только из комы в большую полную приключений жизнь выходили, но и – не на одних небесах браки вершатся – её пациенты на её пациентках женились! Конечно, такое не часто случалось. Но где вы видели чудеса, происходящие регулярно? Большинство больных, исчезая, медленно перед ней проходило, неспешно уменьшаясь и скрываясь в незримом. Не останавливала, не задерживала, не окликала. Немало и жить уходило, хотя много, ошалев от свалившейся жизни, подавившись свободой, возвращалось на этот раз окончательно. Жить помогала, умирать не мешая. Могла отцу помешать? Знала, что не могла, но себе, знанию своему верить не смела. Не смела – раз за разом за ним поднималась, смотрела вниз, чего делать было нельзя, что-то ему говорила. Слова бессвязные – сама разобрать не могла – не слова вовсе, звуки, пытающиеся заглушить вой ветра и грохотание города. Если бы голос её способен был их заглушить, отец бы долго на глазах её мучился. Или был единственный, редкостный шанс? Отец был покладист, пока не заклинивало. Каким клином этот клин могла она вышибить? Цитатой из «Городского пространства», его книги, некогда нашумевшей? Банальностью, помноженной на точность слов – и то, и другое любил – ошеломить? Мосты существуют, чтобы связывать две точки пространства горизонтально. Банальность – дело серьёзное. Сколько лет прошло, сколько времени утекло, сколько дней пролетело? Время летит. Ладно, летит. Не гнаться же за ним в самом деле. Откуда летит и куда? И главное – зачем торопится время, куда поспешает? Теперь, столько продумав и написав, к загадке полёта времени не приблизившись, ощущал, по крайней мере, одно: себя исчерпал. Вперёд не забегал, до невыносимой боли в глазах в смертный берег не всматривался, творил слова, хаотичное глагольное движение существительными останавливал, причастно, деепричастно, наречно неизбежность глагольную утяжелял, словно ракушками днище, и было это ни чем иным как с лётом времени бесполезным борением. Кто это поймёт? Кто оценит? Плюнуть, летит, пусть летит, шут с ними, с могильщиком и шутом, просто в упор, молча глядеть, как земля, будто гигантский крот это вырыл, осыпается медленно, необратимо, подражая течению песчинок в песочных часах. Где песок для них добывают? На берегу морском или в пустыне? Время покажет. Что покажет? Кому? Кузьме его мать? Или матери Кузьку? Замолчите! Зачем несуразности множить? Хотелось он на я заменить. Не решился. Во-первых, удобно по отношению к себе быть посторонним: защита от самодовольства, хоть не слишком надёжная. Во-вторых, себя в другом, не только другого в себе полезно увидеть. В-третьих, одно дело ей его предлагать, совсем другое себя, пользуясь положением, кудряво, коряво подсовывать. А если в отношениях что-то случится, поломается ненароком? Мало ли прочного, железного даже, ржавело и вмиг переламывалось. Всё не так больно, ежели что. Трусость? Хоть бы и так. Не все герои – ура, на амбразуру. Тем более, обойдя с тылу, останешься жив и чего-то добьёшься, пусть капли мокрого страха ладонями отирая. Или всё, ради красного (выгородить героя) или чёрного (других попугать) словца говорится? И это не отвеченным на вороту, запасом истинной вопросительности не обеспеченное, повиснет бельём, плохо отстиранным? Теперь о ней знал он немало. Но как-то всё по частям. Найти способ перемешать тщательно и осторожно. К настоящему прошлое, к больнице и профессору дом, сад, папу-с-мамой, полковника. Почему раньше не сделал? Опасался, её цельности добиваясь, самому на части рассыпаться? Справа и слева от входа в дом, в паре шагов от львят некогда, внося в душу покой, а в пространство симметрию, тревожно хлопоча разноцветьем, входящих клумбы встречали: цветы чудные, редкие, с названиями непроизносимыми. От тех умиротворённо симметричных времён сохранились блеклость, отрепья стеблей, тусклой нотой вплетавшиеся в ноктюрн запустения, небрежения жизнью обыденной, без задних мыслей и смыслов кичливых, свойственных сосредоточенным на прекрасном, великом, разнообразно прочем не в меру возвышенном. Взрослея, старея, от дома, сада и клумб она отдалялась, сбрасывая с себя, словно верблюд, надоевшую ношу, словно змея, уставшую кожу, словно лицедей, больше не кормящую рожу. Только «сбрасывала» неверно, слишком получается быстро, было иначе: медленно, постепенно, неотвратимо, истончаясь, кожа сползала. Не то чтобы дом, сад, симметрия клумб вдруг стали ей ненавистны. Она это любила. Получается, само по себе? Получается. Возвратным глаголом, отменившим у львят ежевечерние чаепития, на которые тем же видом глагольным собирались соседи, ближние, не очень и дальние. Теперь расстояния сократились, очень дальние сильно приблизились, конфеты-бараночки перестали расти на мало доступных деревьях, но чаепития вместе с клумбами вывелись: пить некому, цветочные дурманы вдыхая. Почему хоть клумбы в порядок не привела, старик-сосед вызывался ими заняться? Потому что в огромные цветочные поля бесконечно стародавние всё равно им не разрастись? Потому что, как ни всматривайся до рези в глазах, с вершины горы не видны? – Спустись на землю, – слышала голос матери и молчанье отца, который тщательно выверенно умрёт: дороги строить наобум невозможно. – Я разве не на земле? – Займись клумбами, приведи дом в порядок, не всё с больными возиться, умрут – доброго слова не скажут. – Живые добрые слова говорят, от мёртвых никто ещё не дождался ни доброго слова, ни злого. – Среди вылеченных тобой ни одного садовника нет? – Не знаю. – Поинтересуйся. Узнай. Может, за столько лет был и садовник? Немощь, боле- и духоутоляющими нашпигованная, на больничных койках распластана, чем можно помочь? Случались счастливо забывшие, кто они, себя сознающие тем, кем прошедшую жизнь быть потаённо желали. Не больными стариками-старухами – здоровыми мальчиками-девочками, в первый раз поцеловавшимися и не слишком умело раздевающими друг друга. Мальчику с лифчиком муторошно возиться, девочке пояс расстёгивать не с руки. Но трудности одолеются, разрешатся проблемы, она станет врачом, научится чуть-чуть, на малую малость людей к бессмертию приближать, он станет писателем сперва узко известным в широких кругах, а затем, когда тексты обретут мощь прекрасной гармонии, его прочитают и те, чьим мнением дорожит. Он справился наконец, и она совладала, остальное само по себе летит клочками по закоулочкам, и, щенячьи тыкаясь в пролитое в жизни иной молоко, они проникают друг в друга – взлететь выше верхушки моста, выше макушки горы, и обессиленно, потеряв по пути дыхание и осознание не нужной реальности, опуститься в пустыне, наготы застесняться, голос услышав, прикрыться: он её лифчиком с львятами, она его трусиками с черепашками. Голос суров. А какой ещё могут услышать юнцы, обнажённо застигнутые в пустыне? Одно остаётся: потупив головы, позабыв подобрать львят и черепашек, об остальном и не вспомнив, двинуться навстречу Дюреру, Кранаху, Тициану, Рубенсу, да мало ли к кому, зарящемуся на их ласково прихотливую бело-розовую наготу, плоти их похотливо безжалостно возжелавшему, имя им легион. Как раз тот легион, который мимо её дома прошёл и даже, как утверждают, в округе слегка пару веков потоптался. Дом тогда ещё не построили, но какое это имеет значение? Подчеркнём: легион, не тумэн монгольский, от которого русская тьма, а римский Десятый, кабан – символ которого. Так что бесноватый, имевший жилище в гробах, рвавший цепи и разрывавший оковы, бесы и свиньи – взаправду, не понарошку. Был ли Десятый, был ли кабан, был или нет бесноватый, вопрос противоестественный: раз описаны, раз в буквы сложились, разумеется, были. Не описанное, не сложившееся в буквы не важно алфавита какого, не было никогда, не существовало. Реальны буквы, иероглифы, пиктограммы, остальное – бесовство бесстыжее, несчастных свиней утопившее. Их, свиней осатаневших, рисовать охотников было намного меньше, чем розовато-белую не двусмысленно, не двулико – отчётливо агрессивно бинарную плоть, которая, плодясь-размножаясь, породила бесчисленные поколения врачующих и болящих, а те сущи тогда и постольку, когда и поскольку о них граду и миру писатель поведает. Так что, если тенденцию исчезновения писательства не переломить, то и врачи вместе с больными исчезнут. Кто же из пустыни к горе и обратно тогда будет ездить? Не риторический, вовсе не праздный, совсем не зряшный вопрос! Что было вначале, когда было не до красоты, которая мир спасёт, потому как мира не было вовсе? Что было? Не лотос, но – логос! Не красота мира – текст первозданный: и о врачах, и о больных, и о тех, кто всех сочинит. Потому стремительным взглядом, от плоти медленной отделившимся: компьютер включить, перо очинить, кровь и чернила разбрызгивая, сочинять человечество, бессмертие, отнятое неверием в логос, задыхаясь от нетерпения и величия, настойчиво возвращая. И в книге жизни прочитавший напишет, пишущий прочитает, кто сколько прожил, кого родил и когда, чем отличен и что в наследство оставил. А что свиток свернётся, не верьте: пустая метафора декадентская, островная, что им, в логос не верующим, тексты людские, книгу жизни включая. Но и их записать, из песни слова не выкинешь, как из человека неверие; против естества не пойдёшь. Откинулся в кресле, считывая с экрана написанное, которое не писал, думая об уикенде, что-то где-то в уголке время от времени возникало, с основным потоком мыслей никак не смыкаясь. К клавиатуре пальцы не прикасались: в одной руке чашка кофе – отхлёбывал, в другой бублик – откусывал. Само написалось? Может, где-то в стартаповых тёмных подвалах случается, но до его околопустынных апартаментов ещё не дошло, перекати-поле не докатилось. Герой, он же автор, её полюбивший, привыкший к ней, её сочинивший, слишком к себе снисходителен, и это настолько естественно, что и поделать ничего невозможно. Да и кому мешало себя иногда хоть чуть-чуть не то, чтоб любить – не слишком третировать. Иное – уловка дьявола, о котором неверное утверждают, мол, падший он ангел. Кто видел, как падал ангел, в дьявола превращаясь? Кто свидетель того, как сладкое падение совершал? Всем, существовать не забывшим, дьявол нашёптывает. Но не все его ветвисто рогатого, длинно хвостатого и крючковато носатого, ареал которого, в отличие от панд, не очерчен, далеко не все его желают слышать, однако! Она любую мелко- и крупнорогатую нечисть даже в качестве метафоры не принимала, с детства предпочитая земное и человечное. Не знала, кем в детстве себя представляла, может, когда-то и знала, но прошло время – забыла. В отличие от него – в чём не раз могла убедиться – её это не мучило. А его мучило всё, иначе и быть не могло: искал своему существованию оправдание и только в редкий счастливый час находил. Искать оправдание тому, что она есть? Ни в этом, ни в чём другом оправдываться даже перед собой ей в голову не приходило. Давным-давно уверил себя, что, пока вещь не закончена, с ним ничего не может случиться. Не завершив, не умрёт. Тем более – добрый знак – пошло не так, как замышлялось, слова сами себе дорогу пробив, понесли, завертели. Бывало раньше, будет сейчас: героиня, для которой так много от себя оторвал, врач, случись что, спасёт, хоть с того света, но вытащит. А на нет и её и суда нет, никто не оконченный текст не напечатает. Разве что, когда и если в классики, по крайней мере его поколения, благодарные потомки безжалостно определят. Стало привычным, закончив, сразу новое начинать. Хоть пару фраз, хоть одну. Но пока не окончено, предстоит разобраться, как будут развиваться их отношения, не могут же они, не двигаясь, уныло топтаться, любой канатоходец на одном месте, как ни балансируй шестом, долго не простоит, в бездну сорвётся. У него, в отличие от канатоходца, страховка не предусмотрена. Везде не подстелить – соломы не напасёшься. Да и на самых предусмотрительных бывает проруха. Вот – цунами, вечная память, которая вечной не будет. Сакура. Фудзияма. Цветенье. Пыль. Боль. Быль. Вечные темы, вечные проблемы, вечные вопросы и много ещё чего вечного язык наворочал. Надо бы сократить. Пора ей из ученицы профессора, лучшей, любимой, наследнице и разнообразное прочее, становиться немаленькой звездой на докторском небосклоне. Пора, чтобы имя её через запятую рядом с профессорским произносили: школа живёт и развивается, горизонты новые открывая. А дом? От презрительного небрежения старик плюнет – завалится. Конечно, там только начни, кончить никогда не удастся. Но – минимум: крышу перестелить, сменить черепицу. Не мешало бы с соседями разобраться. Может, живую душу какую-нибудь по близости поселить. Не всё старухи с собаками. Хорошо бы с пастухом и хранительницей виноградника хоть немного продолжить. Юные души – потёмки не столь страшно тёмные, как у стареющих, свежие души и тела нараспашку. Глянуть, пока их слова не распались – мигом в смущении отвернуться, в заурядную тайну таинство обращая. Самое важное в их жизни случилось. Дальше банальности по месту и времени. Не интересно. Ну, покопается, реалий, как червей для рыбалки, в мере достаточной накопает. Оденет по моде места и времени. Толку? Главное не одеть, главное – героя раздеть, что от времени-места не слишком зависит. До точки ещё далеко. Время терпит. Что значит: терпит? Кого терпит? Его? Почему его должно время терпеть? Он его, напротив, не терпит. Можно сказать, ненавидит. Стрелки, песчинки, скрип дверцы – придурочная кукушка, куранты вальяжно кичливые: бом-бом, вздохни напоследок – кранты. Городские часы с парадом святых, явление смерти с косой, наискосок косо упрямые жизни косящей. Как, кстати, разобрались: кто святой, кто не очень? Когда сомнения, кто святой, кто негодяй, выбирайте второе, риск ошибиться ничтожный. Что бы там ни было со временем, можно и в этом пожить, только-только начал в нём обживаться. Хоть и тоскливо. Хорошо там, где ты есть, и пока ты там есть, хорошо. Как преступника на место преступления, тянет к этой банально неряшливой мысли, к этой мелкотравчато гнусной эпохе. А текст его не философский трактат, у него незатейливо просто: земля, вода, воздух, огонь образуют архэ – корни вещей, те под воздействием Ненависти и Любви смешиваются, разделяются, разбегаются, единятся, как пастух и хранительница, один в другом пропадая. Такой получается Эмпедокл, в жерло Этны бросившийся, путь земной завершая, становясь богом небесным. Бросился – принят богами, а вулканический крематорий, насмехаясь, выплюнул бронзовые сандалии, пополнив копилку нелепостей и курьёзов из жизни великих. Остаётся надеяться, что обожествление было не слишком мучительным и о перемене статуса Эмпедокл не пожалел. Как никак здесь был первым, даже царствовать предлагали, но отказался, а там в божественном реестре хорошо, если числится не последним.
Его дом – последний в городе. Дальше через дорогу пустыня. Возможно, когда-нибудь по ту сторону дороги построят дома, даже почти наверняка, что построят, но пока его дом – пограничье между цивилизацией (относительной) и дикой пустыней (тем более относительной). Нетрудно предсказать: в не таком уж далёком будущем цивилизация её полностью поглотит, если не решат оставить кусочек в качестве заповедника – детям природу показывать. Это будет. Однако пока он смотрит с тоской в сторону будущего заповедника, пытаясь высмотреть то ли дикой природы, то ли цивилизации, то ли собственный угрюмый конец. Смотрит и размышляет, что в последнее время тема конца всё больше его занимает. К чему бы? Не иначе к большой распродаже еды в ближайшем супере, которую никак нельзя, дурными голосами и дурацкими лицами утверждает реклама, никак нельзя пропустить. Дом у пустыни – особое пограничье. Пустынное время особое. Странная субстанция время. С одной стороны, время, как известно, течёт. Не откуда и не куда, само по себе, текучесть и есть состояние времени, как горючесть определённых материалов, плавучесть корабля, ещё не утонувшего, плакучесть ив неизбывная и так далее. С другой стороны, время можно потерять или выиграть. Это как? Каким образом с текучестью сообразуется? Ровным счётом никак. Можно было б понять, если бы время текло из бутылки, скажем, в стакан. Мол, потерял время, когда из предмета А в предмет Б протекало, по пути исчезло, в песке растворилось. Трудно, но с натяжкой кое-как представимо. Или: нашёл время, когда из пункта Б в пункт А по каналу времени протекало. Нашёл, зачерпнул золотую рыбку сачком, принёс домой и в аквариум аккуратненько обустроил. Теперь ничто-никто не мешает утром и вечером, да хоть и ночью, то есть в любой час, временем любоваться, предполагая: золотистое, красноватое, с плавниками трепещущими, как руки Плисецкой, глазами, выпученными на мир, который ведёт себя очень странно. Как странно? Вот так! Виденное от слышанного отделилось, забежав вперёд, как картинка от звука в кино, и, не совпадая, они зажили по отдельности в разных временных измерениях. Иногда с ним такое бывало. Тексты выстраивались вокруг чего-то необычного, сногсшибательного, не фантастического, очень земного и вместе с тем неожиданного, диковинного. Скажем, человек в коме – с кем не бывает? – жизнь свою вспоминает, а выйдет, как виденное от слышанного, вопрос – пожалуйста, ответ – наложенным платежом. Но всё приедается, надоедает. Вот свадьба не современная, по старинке, но, если исходить из нынешней моды, получается – странности любви! – вперёд забегающая. Не по нынешней – по вчерашней и завтрашней моде. Что не зазорно. Это по последней моде – вульгарно, до мерзкого привкуса невыносимо. Себя прежнего, особенно юного, выносить очень не просто. Что, однако, поделаешь? Как с ним разобраться? Даже набить лицо никак невозможно: только морду можно набить. А это слишком. Если у юного морда, что же у взрослого? Синонимический ряд здесь богат. Не сдерживаясь, можно договориться до совершеннейшего непотребства. Современники тексты двумя пальцами отщёлкивали, со временем не знали, куда печатные машинки пристроить, бесполезны, выбросить жалко, и себя искали долго, самоотверженно, часто не слишком успешно. Эти страсти, может быть, и к несчастью (лишив жестокого житейского опыта), его миновали, оставив наедине с судьбой, прочерченной чётко, выёживающейся над ним, как желала (жалея!), обжалования, напечатанного через два интервала на печатной машинке, не допуская, но всё же не слишком глумливо. И вся недолга, долгая, недолгая, какая уж выпадала. Завершив период полного согласия с вполне им выносимой лёгкостью бытия – не всё же паясничать да жюльверничать – достигнув возраста, когда об этом задумываешься, выясняя с самим собой отношения, однажды на слишком трезвую голову ощутив необыкновенную ясность ума, сказал себе честно: другой человек в его жизни всегда будет проблемой. Что до признания довело? Может, как каждому взрослеющему человеку, развращённому невыносимой свободой от социальных обязательств, жизненных обстоятельств, от мысли о смерти, ему захотелось увёртливую сущность свою бабочкой к картону пришпилить? Может, почувствовал: прежняя свобода с его обнажающейся сущности подневольной змеиной шкурой сползает, а новая то ли нарастёт, то ли нет: бабушка надвое. Дуй ли, вей, налицо: из его утверждения со всей снисходительностью следовало непреложно, или другого человека не должно быть совсем, что почти невозможно; или присутствие должно быть мизерным, а человек, понятное дело, маленьким, много места не занимающим; или, что было почти непредставимо, и, случись, было бы неимоверной удачей, он должен научиться с ним жить, как… Задумался и – прыжок над бездной – решился: как Бог с человеком, творением не слишком привлекательным и ужасно строптивым. Так, до дна себя со всеми комплексами и фобиями исчерпав, он это расчислил, чуть-чуть цинично по собственной мере, конечно, но весело и скептически сам себе улыбаясь. Зря улыбался. Поскольку монашествовать не получалось, предпринимались многочисленные попытки сыскать не слишком мешающих жить. Были удачи, увы, недолговечные, занимавшие скромное место, из жизни исчезавшие незаметно. Ни за одну из подруг и семи дней не работал, случись, годами бы показались; относясь соответственно. Поражений на этом фронте не было вовсе: по этому поводу войн не затевал. Память – штука злорадная. То, что больше всего хочешь забыть, помнишь лучше всего. Подруг путал нередко. Видно, не пытался забыть. Какая из них? Та, которую не на крыше купающейся, на балконе загорающей из окна кухни увидел? Или та, у которой в нижнем месте бинарном нежные голубки: голубь – голубка, то ли целующиеся, то ли клюющие. Нынешний случай не имел прецедентов. Учился с ней жить. И это не слишком его напрягало. Пытался ответить себе: почему? Потому что она, его доктор, не стремилась его жизнь к своей приспособить? Или славно боги сработали, их пути под луной и под солнцем сближая? Ответить на первый вопрос было трудно: материя тонкая, начнёшь взад-вперёд отмерять, может порваться. Ответ на второй вопрос невозможен. Фома неверующий, он с богами всегда трудно и напряжённо общался, не слишком их честности доверяя. Человек богам лжёт. Всегда, постоянно, при любых обстоятельствах. А те, рыжие что ли? Им какой резон честными быть? Так и живут, в пространстве одной лжи сосуществуют, фейковыми посланиями обмениваясь. Стать писателем, не научившись лгать, невозможно. Лгать другим. Лгать себе. Лгать во спасение. Лгать с прицелом, и лгать бесцельно, просто так, по привычке. Не солжёшь – не постигнешь. Просто созерцать – дело пустое. Один случай. Другой. Вот и третий. Объединяя их – постигаешь. Хотя постигнутого тобой не было никогда. Объединил три случая – и солгал. Солгал – и постигнул. Как это? Ложь – в постижение. Лгу – постигаю, а, постигая, я существую. Ergo sum, так сказать, чтобы понятней. Вот и сейчас, о лжи размышляя, до смерти захотелось нагло солгать, назвав луну третьим глазом всезрячим, на перемещения между горой и пустыней взирающим настойчиво жёлто с невиданной верхушки моста, струн-канатов сплетению высоты невообразимо недостижимой, чтоб ослепительной ложью их единение благословить. Если всё – ложь, то он и она – тоже ложь. Её солгать для себя – трудно неимоверно. Себя солгать для неё? Невозможно. Что делать? Перейти на правду – единственный выход. Только как? Это не роман написать, который, расчленив на диалоги, продать телевизору. Поздно, с правдой уже не получится. Двери-окна закрыты, даже форточки не откроются. Взломать не удастся. Шум, гам, тарарам. Выскочат с вилами. Собаки залают. Охранники на вышках проснутся. Сирены завоют. Прожектора ярко надуются. Швейно-пишущими машинками затрещат пулемёты. Не получится. Придётся и дальше лгать миру о мире, восьмирично, десятерично цифрами пробавляясь. Не дописав роман, умереть невозможно. Не так ли? Писательство оправдав, он уснул. Дробно-дробно стучали слова, дождём по стеклу барабанили, взбесившимися часами частили: догнать убежавшее время, мёртвых в мир живых возвратить. Во сне писал старательно, словно лужи, лишнее обходил, детали, перечитывая, упорно вычёркивал: не детектив из мелких подробностей сочинял. Под утро, вопреки обыкновению, сон завершился чем-то очень приятным, словно дерзновенно изящный десерт. Дальше спал спокойно и безмятежно, с готовым афоризмом проснувшись: жизнь берёт своё, тем более – смерть. Приготовил кофе, не выбежавший, не пролившийся, и с удовольствием, глядя в окно, по привычке балконы обозревая, однокоренные сущности, как чётки, перебирая, выпил напиток индейских богов, облизываясь и смакуя.
Проснувшись, глянул в окно: серо, на часы: остановились. Включил радио – время узнать. Счастливый комментатор, свежий, словно и не спросоня, часов не наблюдая, тарахтел восторженно, как будто сам вчера поздно вечером голы забивал. Голов было много. Они были красивы. Слов – ещё больше. Что ему испанские голы? Был ли тот когда-то в Испании? Ему не пришлось. Но подумал, что у него с ней родство, хоть и весьма опосредованное. Самый молодой из могикан, его, можно сказать, петардой в свет запустивший и тут же забывший, какими-то судьбами был заброшен на Пиренеи. Зачем, история умалчивает. Зато легенда красноречива. Подобно Абулафии, великому каббалисту, себя мессией провозгласившему, решившему папу в иудаизм обратить, самый молодой из могикан, понятно, по пьяни, решил обратить диктатора Испании Франко в религию свободной любви. О чём заявил громогласно, назначив каудильо день встречи. В назначенный день Абулафия прибыл в резиденцию папы, приготовившего гостю костёр. В тот же день папа умер. В час, назначенный могиканином, Франко умер. В дикой суматохе нашлись идиоты, которые на пьяную блажь повелись. Предсказателя взяли за подходящее место и обвинили в изнасиловании одной из девиц, которых на пьяных сборищах испанских поэтов всегда было в избытке. Но времена наступали другие. Поэты дружно на всех перекрёстках орали, что, как великий Гарсиа Лорка, невинно убиенный фашистами, последний молодой был большим другом всех испанских поэтов, мужиков и юной, но совершеннолетней, однако же, поросли, и хоть это с точки зрения католицизма не велика добродетель, но на генерала и в мыслях не покушался. Да и какие мысли в состоянии столь не трезвом могли заезжего посетить? Точная дата? Просто так, совпадение, а если пророчество, то с этим тем более – не мирские дела – ничего не поделаешь. Может, этот миф самый молодой из могикан сам сочинил, об этом история, словно воды в рот набрав, дерзко молчит, ни гу-гу, не щебечет. Но с этого момента самый молодой, став существом совершенно мифическим, вроде кентавра или грифона, был на определённого сорта судьбу обречён, которой часто удачно подыгрывал, на вопрос отвечая: – Почему вы стали поэтом? – Надо же чем-то в ожидании смерти заняться. А что же он сам, о котором толкуют, что из молодого могиканина выпорхнул, едва оперившись? Обречённость быть, не просто быть, но быть таким, каким был и какое-то время, наверное, будет. Каким будет, знать невозможно. Каким был, можно представить по фотографии. Школьный альбом: невинные учителя, невинные мальчики, невинные девочки, одноклассники, вспоминаемые с трудом, приблизительно. Выпускные семнадцатилетние мальчики в галстуках, он один, от невинности чужой отрекаясь: чёрный разлёт, подрезающий шею над белой рубашкой; или иначе: чёрная чайка над белопенностью волн под бескрайностью неба с необщим лица выраженьем; или: чёрный нож, его сегодняшнего от тогдашнего, словно живую плоть на две части, рассекающе отсекающий. Красиво, чёрт возьми. Он теперь так не умеет. Первый раз к ней направляясь, её дом, словно новый текст, пытался представить. При подъезде к дому дорога, скользя ужом, ужималась: не развернуться, назад не повернуть, двум машинам век не бывать, одной не миновать; змеёй крутнувшись, дорога в забор упиралась: приехали, выходи. Как сложатся отношения с текстом, предсказать невозможно. Задумаешь новеллу – случится роман. Замыслишь роман – выпишется рассказ. Представил. Ничего не увидел. Присмотрелся – химеры. В точности те. Не удивился: собор сгорел, ремонтировать долгие годы. Кому охота в пыли-грязи корчить рожи в глупую пустоту. Вот и на новое, пусть временное, жительство перебрались. А с ними – ухмылочка! – дьявол вполне себе видный: не только в деталях он обитает. Оказалось... [👉 продолжение читайте в номере журнала...]
Чтобы прочитать в полном объёме все тексты, опубликованные в журнале «Новая Литература» в июле 2021 года, оформите подписку или купите номер:

Оглавление 6. 6 7. 7 |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|

