Владимир Захаров
Рассказ
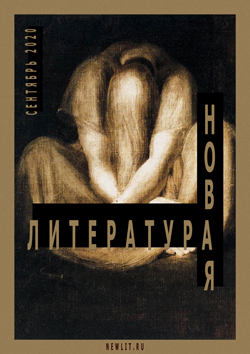 На чтение потребуется 22 минуты | Цитата | Скачать в полном объёме: doc, fb2, rtf, txt, pdf

Ручка у неё была женская. Абсолютно. А какая ещё может быть? Но Сева Хлынин… для него… в общем – не просто так и изумительно до продрожи. Выставила её, чуть отстранившись. Протянула специально так, чтобы ему пришлось сломаться пополам, дабы истребовано поцеловать. Сева ввалился с дождя. В полшага в подъезде, в полшага ещё на улице. Внутри в нём примерно всё такое же половинчатое… перед решением. Ещё и запыхался, пока гнал её. Даёт себе время отдышаться. Ему кажется, что так будет правильно. Обстоятельно, что ли. По этикету. Хотя, какой к чёрту этикет. Оба, в известных обоим обстоятельствах. Она, однако, пока ещё не обнаруживает этого. Тоже, своеобразный этикет. Соответствие личине. Сдувая катящиеся со лба капли, Сева заходит-таки в подъезд. «Мерси», – удивительно самому себе, непроизвольно бурчит он и склоняется к руке. Кисть изогнута под плавным закруглённым углом к предплечью. Тонкая золотая цепочка браслета, исполненная в виде змейки Асклепия, как не из этого мира. Особенно в жалком подъезде, на фоне исписанных стен, горчичного света ламп, плотных пищевых и людских запахов. Костяшки пунцовеют. Продрогла с улицы. Дождина такой. Хрупкое изделие – рученька её. Хлынин не дышит, будто опасаясь сдуть этакую изящность. Бусинки дождевой испарины едва заметно поблёскивают на прозрачных волосках фаланг. А запах какой! В непосредственной близости аромат не замещается вульгарными миазмами панельного дома. Её телесный аромат, как вторая кожа, оберегающая от всей пошлости мира. «Лакрицей пахнет», – думает Сева. Конечно не лакрицей. Но он не знает, чем именно, а это, всплывшее из детства экзотичное слово – вполне отражает. Ноготки. Заметна белёсая рассветная линия в основании… да, линия улыбки, так это называется. Хлынин в очередной раз удивляется, как много потаённого открывает в нём эта женщина. Того, что он, казалось, и знать не должен. Отчётливая линия улыбки – выставочным эталоном под стеклом прозрачного лака. Хлынин чувствует, как полы куртки натягиваются за спиной. Севу оттаскивают. Упрямо каменея лицом, прикладывается холодными губами к руке. Через кожное онемение его, через жёсткую щетину, через сланцевые наслоения шрамные – всё-таки пробиваются ощущения. Отзвуки вкуса её кожи. И это прекрасно. Как много разбросано по жизни вот таких кратких моментов, в которых хочется задержаться, но почему-то нельзя. Сева Хлынин не знает, почему, но точно уверен в том, что нельзя. Иначе бы все в них оставались. Не отнимая губ, Хлынин смещается чуть ниже к пальцам. Замирает на указательном. Затем путешествует с него по остальным, будто пересчитывает. На безымянном – небольшой шрамик от зажившего пореза. Точно бы специально для него оставленная метка. Сева утвердительно моргает и откусывает безымянный палец.
«Как округ золотаря – мухи, так округ погоняющего – бесы». Так говаривал отец его, Семён Егорыч. А ещё, что не отец он ему вовсе. Не вполне, по крайней мере. На вопрос: а кто? – лишь пожимал плечами и презрительно воздевал указательный палец к небу. Он у него был короткий, словно обрубленный. Кривой. Толстый. С большой покатой пластиной ржавого от папирос ногтя. Мозоли вскипали из-под крышки ногтя того. И Сева не понимал, чем он больше заворожён: этим монументальным перстом или тем, куда он указывал. Впрочем, беспокойный Сева был. Маленьким особенно. И надолго не сосредотачивался. Семёна Егорыча это порядком злило. Попивал папаня. Побивал. А чего малой ёрзает всё время? По сторонам зырит. Отмахивается от чего-то. Или встанет, бывало, ночью посередь избы, руки-ноги расставив, будто его кто по сторонам растаскивает. Жути только нагоняет. А её и без того: и вокруг, и в пьяной башке – море разливанное. Ну и побивал папаня… пока не запретили. Запретил деревенский поп Игнат. Как и прижился-то на колхозной землице, пережиток? Хотя, как оказалось, недолго было ей оставаться колхозной. Перестройка, все дела... Ельцин. Вновь поповское время. Выходит, что знал поп Игнат, чего дожидается. Ждал скоромно и опекал Севу. А его папаню, Семёна Егорыча – бедствующего механизатора, ограничивал в суровых воспитательных правах. Но и той опеке время подсчитано. А всё оттого что однажды на службе воскресной, что с недавнего времени стала пользоваться спросом и проводиться с регулярностью партсобраний, Сева указал на залетевшего в церкву, увязавшегося за ним сизаря. Сказал, что это не голубь, а ворон… и не ворон… и не птица, а клякса… чернильная. Поп Игнат задумчиво перекрестил пернатого, кадилом вяловато махнув, но тот лишь на амвон взлетел и обгадился безобразно. Заголосил и вовсе на нездешнем тварном. А Севе почему-то петь захотелось. Что же пел он тогда?.. Ах да, песенку из мультфильма: – …пусть…
– …бегут неуклюже пешеходы по лужам, – напевал Сева, взбираясь по лестницам подъезда. Отплёвывался украдкой. Вкус крови не уходил, волокнисто осев на зубах. – Куда ж ты, красавица? Не поспеваю я… да и зачем? Хирург детской больницы, Изольда Андреевна, аки лань проскакивала целые этажные пролеты. Подвывала. Материлась почём зря. Прихохатывала. Уговаривала Хлынина, чтоб отстал. Увещевала, свесившись меж перил. У неё на всё это было время, так как с нечеловеческой прытью обгоняла изрядно, а Сева взбирался тяжело. Его вспять тянули. С объеда безымянного пальца женщины вниз срывались увесистые капли. По временам оба они, преследователь и преследуемая, замирали, заворожённо разглядывая их. Будто кто ветку тряханул с черноплодным перезрелом. Капли-ягоды падали медленно, игнорируя законы притяжения. Не хотели покидать хозяйку. Красиво… Правда, Изольда Андреевна тут же вспоминала, что ей вроде как больно должно быть и, по-детски выпятив губки, укоризненно покачивала головой. Сева подыгрывал и удручённо, мол: а что делать? – пожимал плечами. Взбирались дальше. Теперь его уже не просто хватали и тянули. Хлынин запинался, припадая на колено. А то и разворачивался на сто восемьдесят, успевая сделать пробежку в обратную сторону, на возврат. Едва и вовсе не скатывался с лестниц. – …а вода по асфальту…
– …рекой, – напевал маленький Сева, высвободившись из-под опеки рук Семёна Егорыча, стыдливо задвигавших его за спину. Лицом он перестал быть ребёнком. Страшен стал ликом. Глаза разбрелись с насиженных мест. Правый, в напряжённом вылупе, сползал вниз, как сырое яйцо со стенки. Левый, в прищуре, взбирался вверх, подпирая лоб. Рот широко раззявлен, будто там ещё и третий глаз притаился. Челюсть в отвале на сторону. Вместе со слюной на деревянный пол церквы пара зубов молочных пролилась. Кости под мясом ходуном, попёрли углами. Народ взволновался. Забродил тестом восстающим. Бабки в перекрестии прячутся. Те, кто помоложе, упрекают Семёна Егорыча. Видно ж, прихворал отпрыск. Вона как перекосило. Падучая, должно быть. Помоги. Домой веди. До лазарету. А тот лишь отмахивается. Ему вообще, и церква эта, и вера старо-новая – поперёк горла. Соляры неделями не поставляют. В сельпо третья месячная зарплата в закладе. Урожай-прошлогод с огорода уже проеден. Педерастия какая-то, а не жизнь. Развал. Выпить бы. Так нет же, потащил сынок с утра пораньше к мракобесам. Как пёс охотничий в стойку по струнке – при заутреннем перезвоне колокольном. Зазвали болезного, так и сами теперь расхлёбывайте. Вон – попово оно дело. Зря, что ли, столько казённого хлеба прожрал? За всю-то прошлую безбедную жизнь советскую. Откормили дармоедов себе на погибель. Отрабатывайте! А его, механизатора высшей категории, мутит от вони церковной. Душно и тесно, как в узилище. Нашли, тоже мне, чем в воскреса заниматься. Уж лучше б пили... Нашли? Занимайтесь! – …и не ясно…
– …прохожим, – высохшим горлом отдыхивается Сева на последнем этаже. Изольда Андреевна, светило детской хирургии, добежала до чердачной двери. А там – замок. Тупик. С прилежной аккуратностью подстелила плащик. Присела на коротенькую приставную лестничку чердачную. Локотки на коленках. Тихая. Загадочная. Ноги сводит, разводит. Интригует. Улыбается. Исподним хвастается. Да-а… ничего не меняется. Проходили уже. Не раз. Это ещё там, внизу, при ручонке её выставленной на отстранении, Сева мешкал. Каждому позволительны сомнения. Хотя, конечно, всё об Изольде Андреевне уже знал. Что она врач, и не врач… и не женщина… и не человек, а клякса… чернильная. Но то немногое оставшееся в ней, одонки человеческого, женского – тогда ещё грели и мутили одинокого Севу. Сейчас же не до того. Лицом Хлынин обезобразился. Впрочем, лицо его с детства зарезервировало это самое безобразие под такие вот преображения. Сама костная структура выломалась. Словно кто пясть запустил в глазницы и со степенной настойчивой медлительностью, годами, сноровистым мастеровым воздействием – раздвигал черепные прорехи. И сейчас – глаза Севы вновь разминулись. Левый глаз, попирая подлобное пространство, словно всплывая с глубины, взмыл чистым незамутнённым лазоревым взором кверху, туда, где предположительно находилось небо. И небо в нём, – несмотря на затянутый паутиной, весь в жёлто-бурых разводах испарений, потолок подъезда, – небо в нём – отражалось. Правый же глаз, набрякшим ледяным шаром с почти скрытым за серой поволокой зрачком, грузно свесился, удерживаясь на лице, казалось, лишь мясом подглазного мешка. Правый глаз смотрел вниз. В этом было его предназначение. Минуя пространства этажей под ногами, подвал, фундамент, копошащихся в земле червей… за всё это, за червей смотрел правый глаз. Неудивительно, что пострадал, поизносился, продираясь через мрак, к ещё большему мраку. Сева тоже поизносился. Ему ещё и сорока нет, но немногие клока волос на облысевшем черепе стынут блёклой паклей седины. – …в этот день непогожий…
– …почему я такой… – звонко пел маленький Сева, подражая голосам из любимых детских передач. Все остальные деревенские попритихли, вслушиваясь. Будто мальчик их созвал на утренник и взобрался на табуретку. Выступление. Странное… страшное. С голубем также творилось чёрт-те что. Вспорхнув крыльями, перелетел с жертвенника на царские врата и беспокойно вышагивал по ним взад-вперёд над иконостасом. Повертал птичьей головкой к мальчику и от него, словно бы всполошено возмущаясь и в то же время любопытствуя. Семён Егорыч, отплёвываясь, протиснулся к выходу. Выйдя на крыльцо, стравил на сторону похмельное и угрюмо закурил. «…весёлый… почему я весёлый такой…» – бормотал он, восстанавливая пропущенное сыном слово. Это злило его ещё больше. Почему он пропустил слово: «весёлый»? Так же песня совсем не звучит. Уже другая песня выходит. Или ему не весело, оттого что он такой? А ещё Семён Егорыч ладони мозольные тёр друг об друга, словно умывал. Поп Игнат же его заместил, оставшись с отроком в церкве. Не сбежал. Пока мальчик в забытье незряче приближался к птице, поп на некотором отдалении опекал его. Дробно вышагивал за спиной, взглядом и жестами успокаивая пришедший к причастию люд. Словно антрепренёр – фокусника. «Терпение, терпение. Фокус будет. Непременно. Не мешайтесь только». Сам при этом – не пример. Заметно нервничал поп. На старческое лицо то внезапно набегали тучи неутолимого беспокойства, а то оно озарялось светлой искупительной надеждой. Голубь, вывернув шею под неестественным углом, распушил крылья, встряхиваясь, как бывает, когда птицы в луже возятся. Полетели перья. Сторонами. На алтарь. В причастную чашу. Вороные. Из белого голубиного оперения – вороные, будто в смоле вымоченные, перья. – …я играю на гармошке…
– …у прохожих на виду... – Да заткнись ты уже! – вспылила Изольда Андреевна, перебарывая тряску телесную и так не идущие её красивому благородному лицу корчи всяческие. – Хуже желчегонного! Хлынин умолк. Утомлённо тряханул головой, а ладонями словно бы заново расставил глаза по местам. Растирая виски, съехал спиной по стеночке и похмельное стравил на сторону. Бережно завёрнутый в тряпицу откусанный пальчик подвинул к ножкам Изольды Андреевны. Закурил. Голова раскалывалась. Погонять с похмела – тот ещё аттракцион. Не привыкнуть. Хотя когда он не с похмелья? Водка, что святая вода. «Пол-литра – разбавляет палитру». Отцова шутейка. С водкой, вроде как, – поменьше клякс обступающих. Правда, и света маловато. Серость, в основном. Сажей окружное обсыпано. Но оттягивает. Попускает. – Даму угостишь? – спросила хирург, отдышавшись, оправившись. Хлынин, не поднимая головы, протянул ей сигарету. Клацнула крышка зажигалки. Долгий продолжительный слышный вдох. – Вот чего ты ко мне привязался? Сева исподлобья глянул на женщину. Вновь красива. Когда глаза возвернул в своё человечье, то вновь – хороша. Волосы только слегка растрепались. Причёска – как после подушки. Но так ещё пикантней. А действительно, чего это он? Может, бросить всё? В кино её сводить, в «Макдональдс»… Или таких в рестораны водят? Правда, из недостаточного пальчика у неё по-прежнему чёрная протечка. Но его же и перевязать можно. – Сколько? – спросил Хлынин, откинувшись головой и протянув ноги по полу. – Чего – сколько? – Сколько детишек из-под твоего скальпеля не встали? Изольда Андреевна досадливо затушила окурок об ступеньку и достала косметичку. Стала прихорашиваться. Макияж править. – Кто ж их считает? – как бы между делом бросила она. – Я. – Как тебя зовут? – Сева. – Просто Сева?.. Ты что, школьник? Или с задержкой в развитии? – Сева Хлынин, – смущённо поправился он под строгим взглядом. – Вот ты, Сева Хлынин… например, черешню любишь? – Я вишню люблю. – Врёшь! – отвлёкшись от зеркальца, с озорной улыбкой глянула на него Изольда Андреевна. – Ты её, наверно, и не ел-то никогда. Она же кислая в натуральном виде. Особенно наша, северная. – Я сок люблю… вишнёвый. – А-а… Точно не с задержкой?.. Ну, короче, вот ты вишнёвый сок любишь, а я – детей резать. – Женщина вернулась к макияжу, лишь изредка украдкой поглядывая на Севу поверх зеркальца. – Что?.. Возмущён?.. Как так можно, все дела? – Нет. Чего ж тебе ещё любить. – Очень люблю, – мечтательно приподняв подбородок, будто что-то приятное вспомнила она. – Но, наверно, не так давно… – Что? – Не так давно полюбила резать, говорю! Врачом же становилась из-за другого? Хотела помогать. Спасать детишек… И многих спасала. Я узнавал. – Люди меняются, – кокетливо отмахнулась помадой Изольда Андреевна. – Да не особо, – задумчиво проговорил Хлынин. – Не замечал… Разве?.. По-моему люди меняются, только когда перестают быть людьми. – А кто я, по-твоему?! – воззрилась на него Изольда Андреевна, разве что не всплеснув от возмущения руками. Сева вновь потупился, задумавшись: – Да хер его знает… Точно не человек. Погань какая-то мерзопакостная. Чёрное что-то… из-под земли. Порядком не задумывался. Толку… – Это я-то погань? – состроила она обидчивую гримаску, всё больше разъезжаясь ногами по сторонам, отчего Хлынин уже смог разглядеть цвет исподнего. – Ты чего, Севочка? Я из-под земли? Ну-ка, миленький, присмотрись повнимательней. Изольда Андреевна спрятала косметичку в сумочку. Расположила ручки по бокам. Приосанилась, выставившись грудью. Коленки совсем высоко подобрала, отчего подол юбки, задираясь натягом, оголил бёдра. А ещё губками примечательно так изобразилась, сжав и выпятив их несколько раз, чтобы свежая помада прижилась. Хлынин присматривался. Долго. Смущённо. Мечтательно. Хотя как долго? Время и вовсе будто бы остановилось. Что-то там с шестернями. Ещё один момент, в котором нельзя остаться. По бледной цементной просыпи щёк его растёкся стыд. Примерно того же цвета, что и сок любимый вишнёвый. – А хочешь, расскажу, каково это? – сладким полушёпотом даже не проговорила, а в истоме продышала она. Сева то ли кивнул, то ли завалился в заторможенном тике головой набок. Но Изольде Андреевне не нужно было его одобрения и, может быть, даже участия. Просто в ней сейчас разыгрывалось что-то сокровенно-личное, чем она дорожила и что впервые могла разделить хоть с кем-то, кто выслушает. – Это как радугу сотворить. Представляешь? Своими руками. Нечто прекрасное… Вот ты можешь радугу выпустить?.. Куда тебе! Только за женщинами беззащитными гоняться мастак, да пальцы им оттяпывать… А я могу. Достаточно отступить на миллиметр. Скользнуть скальпелем. И радуга выпрыгивает из тел их маленьких, будто только этого и ждала. Вся операционная озаряется. Многоцветие. Чистое… прозрачное… Разве погань может такое? Способна… тьма? Увидь ты хоть раз тот свет, понял бы. Но нет же, ты только тьму во мне видишь. А что видит тьма?.. Не задумывался?.. Во всё продолжение слов дыхание Изольды Андреевны учащалось, грудь ходила ходуном, руки порывисто спускались к лону, исподволь касаясь белья. Она до мелового глянца обескровилась лицом. От действительной ли потери крови? От общей ли сквозной промозглости? И только на щеках проступая, играл лихорадочный румянец возбуждения. Широко раскрытые глаза увлажнённо сияли. А кровоточащий палец оставлял чернильные разводы на белой ткани исподнего, на внутренней стороне бёдер. Как будто нечто расписывалось, удостоверяя её слова. – Но часто нельзя… нет… иначе заподозрят. Статистика ведь есть. Смертность. Надзорные органы. Или такие вот, как ты… Представь, каково это – знать, что можешь сотворить нечто прекрасное. Вот оно. Перед тобой. На кончиках твоих пальцев. В твоей власти. Ты в секунде от радуги, в миллиметре, за одно моргание до неё. Удержался бы Сева Хлынин? Не выпустил бы радугу... ТЫ?.. И не надо мне про мораль вашу человеческую. Ну и что, что дети? А может, они и созданы для этого, вот… вы созданы… для радуги. Потом она уходит. Я проверяла, поверь. Искала. Не раз. Во взрослых, в таких, как ты или я – её больше нет. Радуга уходит. Свет уходит. А дети, они как цветы. Свет в них созревает, и если вовремя не срезать цветы… детей… то этот свет… не знаю уж, что там с ним происходит… прокисает, испаряется. Так что я всего лишь цветочница, возделавшая сад… Видел бы ты то, что видела я, – с искренним сочувствием и сожалением посмотрела она на Севу. – Ползи уже ко мне, безрадужный ты мой… лижи писю. – …прилетит вдруг волшебник…
– …и бесплатно покажет кино… Вороные перья разлетались сквозняком по всей церкве. Вихрились, спиралью развинчивая воздух. Порошили под ногами. Забивались во всё то – чем смотрят, чем дышат люди. Страшный мальчик, с растащенными по сторонам руками, горланил свою песню и кружился вместе с перьями, будучи устьем смерча. И всякий раз его оборот вокруг оси заканчивался тем, что кому-то из паствы плохело. Припадали на колени, отмахиваясь от назойливого пера, которое было того же цвета, что и попёршая глотками вытемень. Откашливались смоляной жижей. Не всем пришлась по нутру песенка. О ком и не подумаешь никогда. Вот, казалось бы, наяривали бок о бок деревенскую бытовину общую, а сосед, погляди ж ты, всё это время чернь в себе таскал. – …с днём рожденья поздравит и, наверно, оставит… И вой, и стон – подстилкой легли к песне мальчика. Кто мог, из воцерковленных, на карачках, по-пластунски выползали из храма. Семён Егорыч, с кривенькой ухмылкой, по временам заглядывал в притвор. На дверях дежурил. Попыхивая папироской: за волоса, ворота, загривки – тягал хороняк за порог. Но не тех, кто всё ещё слюной чернильной исходил. Те, по-евонному – безбилетники. Тем ещё сына послушать надо. Не дослушали. Для кого мальчик старается? Поп Игнат, сам головой спутавшись, растерянно бродил по людям, раздавая кресты. Рукой тяжёлой, словно по норме. Всё больше для себя приберегал. Старая заношенная сутана была похожа на давно не битый половик. Много пыли скопилось. Подол перьевой следом. – …я играю на гармошке, у прохожих на виду… Перопад пошёл на убыль. Голубь сложил крыла. И так уже обсыпался, что не на одну стаю хватит. Попытался взлететь с престола, но обвалился на алтарь и, худобно притихнув, в посмертии – птицей в птицу возвернулся. Люд освобождённо подымался с колен. В дёгте нутряной жижи, оскальзываясь, с налипшими на чела вороными перьями. Вот так, причастились! Поправились! Почистились! И, казалось бы, и Севе пора притихнуть. Затворить измочаленную глотку. Вон, глазёнки, почитай, уже недалёка от того, чтобы повыкатываться из черепушки. Как без глазёнок жить-то? А ручки-тростины ведь на отрыв уже растянуты. Коленки подгибаются. Но мальчик не умолкал. Перестав кружиться, какими-то петушиными подскоками выдвинулся он по душу попа Игната. Тот уже загодя сторониться его начал. Вжался в грубо тёсанный из сруба крест. Пяточки распятого обнимал. Спасения искал ли? Но те пяты уже давно землёй не хаживали. А поп был всё ещё на земле. И мальчик Сева Хлынин, со своей песней кишкодранной назойливой, – на оной же. – …пусть бегут… рекой… в этот день… в этот день… я такой!.. пусть бегут!!! я играю!!! я такой!!! ПУСТЬ БЕГУТ!!! В ЭТОТ ДЕНЬ!!! РЕКОЙ!!! Протёк Игнат разом и изо всех зазоров. Долго, видать, держался. Полным-полна чернильница. Слизь мазутная: глазницами, ушами, ртом – выходила. Отстал поп от спасителя деревянного. Последнее достоинство наскрёб и выпрямился шатким долговязым туловом, воззрившись в страшные мальчишьи очи. Тот, вроде как, на него снизу вверх смотрел, но казалось, что наоборот. Тих был поп Игнат. Истаивал тьмой, а в глазах думы тяжкие роились. Вспоминал ли он всех агнцев, им попорченных, растлённых? Ведь столько веры, казалось, способен в себя вместить. Пронести через гонения. Через годины «красного» безверия. А мимо этого искушения – пройти не смог. Никак не обойти его. Споткнулся раз. Потом ещё. И снова. И опять. А потом уже и внимание перестал обращать. Ведь не видал никто того, что ему явленно было. Радуги из агнцев в небеса бьющей. Нельзя, что ли, к свету присоседиться? Радугу обласкать? Это его работа, так-то. Быть жрецом света. Никто не уйдёт обиженным. Он и не обижал. Старался. Подкармливал. Теплотой окружал. Вниманием задабривал. А то, что не поймёт его люд простой, не простит, это он знал, конечно. Так и Христа не понимали и не прощали. И то, что дела эти подсудные, так и Христа судили – судом человеческим. Грех, всё тот же чирей… чик-чирик… мало ли парши на человечьем теле водится. И с ней живут. Не заметил отец Игнат, как разросся его чирей. И сейчас страшный мальчик Сева Хлынин своей нелепой песней из мультика – выдавливал чирей, и оказалось, что только он один в Игнате и остался. Дрогнув телом, священник, отгоняя мальчика, как всю ту же птицу двором гонят, рухнул на свечной канун. Сколько дожидалось его пламя очистительное? Видать, долго, так как жадно набросилось. Слепяще-ярко и всем объёмом занялся поп. С шепотливым треском прогорал вместе со своим стыдом, со своим грехом. Сева вышел из церквы, подталкиваемый смрадным дымом. На крыльце его, покуривая и задумчиво рассматривая горизонт, караулил Семён Егорыч. Поглядел на пацана с укором. Сколько ждать-то можно? Вдохнул заросшими ноздрями дым. Поморщился. Запер дверь. Дым втянуло в рассохшийся косяк, под порог. Такое нельзя выпускать. Сева дрожал хворостиной. В испарине весь, но на ощупь – ледяной. Моргал – так и вовсе будто бы с трудом. Надолго веки затворял, точно причиняло ему нестерпимую боль то, что в них прокрадывалось снаружи. – Пойдём уже до дому, Челентано, – мягко сказал Семён Егорыч, прижав сына к бедру и спрятав его голову в локтевом сгибе.
– …мне в подарок пятьсот эскимо, – устало допел Сева дорогой, пока спускались. Где-то в его подмышечной впадине ютилась притихшая Изольда Андреевна. Под глазами подсыхали чёрные слёзы. В уголках рта – сажа. Долго углём причащалась. Её трясло, будто в выхоложенную простыню обернули. Ноги подгибались. Но Сева, несмотря на собственное измождение, опекал её прилежно. Чувствовал себя школьником. С женщинами у него всегда так. Школьником, который набрался, наконец, смелости и предложил красивой однокласснице проводить. Несёт её портфельчик. А в портфельчике – послед скинувшего кожу ада. Но об этом девочке больше думать ни к чему. Нечего. Изольде Андреевне – детскому хирургу – не надо об этом думать. Но кто ж запретит. – С-сколь-ко? – теперь уже она спрашивает продрогшим анемичным голосом, и вправду сейчас похожая на неуверенную девочку-школьницу. Хлынин отмалчивается. Лишь жильными усилиями рук, вовремя напрягаясь и расслабляясь, вроде как телом пытается до неё донести, что: пустое. Сожалеть ни к чему. Мучиться. Да и что ответ даст?.. Сколько?.. Ведь и из-за одного загубленного измучается. Тут не про количество. И одного хватит. Немногие живыми после песен Хлынина оставались. Особенно в таких запущенных случаях, как у Изольды Андреевны. И не скажет он с уверенностью, что хуже: до смерти – бесовой – слякотью истечь; или, отчистившись – с памятью человечьей наедине остаться. Да и не Севы это дело. Своё дело он справил. Но эту присмиревшую в его объятиях красивую женщину было страшно оставлять одну. Во всё продолжение спуска по лестницам подъезда... [...]
Купить доступ ко всем публикациям журнала «Новая Литература» за сентябрь 2020 года в полном объёме за 197 руб.:
|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|
||||||||||||

