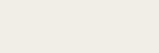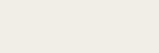Что делать с упрямством?
Я никогда не публиковался в рецензируемом издании. Распустился. И время от времени позволяю себе изобретать слова. Одно такое – гринантика. Взамен бытовавшего когда-то в науке о литературе, да забытого – ради торжества реставрации капитализма в России – гражданского романтизма. А тот – если взглянуть широко – есть некое повторение в веках повторяющегося Позднего Возрождения, иными словами идеала трагического героизма. Высоцкий (с его вот-вот и взойдёт – про солнце) его исповедовал большую честь жизни. Наивный оптимист. И лишь в конце он перешёл, совсем разочаровавшись, в сверхисторического оптимиста. Переход этот, несмотря на скачёк оптимизма от наивного аж к сверхисторическому (минуя исторический), происходит плавно и незаметно для носителя. Да и для восприемника. А может, и с колебаниями туда-сюда. Так имело б смысл эти два идеала объединить одним словом гринантика.
И тогда этим гринантиком можно было б назвать Сапира в его рассказе «Ленинградская ночь» (Декабрь 1934). Ибо в его же рассказе «Паспорта» (1933) он сверхисторический оптимист, и через год, получается, двинулся в направлении, обратном естественному изменению от наивного оптимизма к сверхистрическому.
Я читал «Ленинградскую ночь» и тупо озадачился, кому это парнем сказано: «Товарищ, без паники. В Смольном в четыре часа сегодня».
И пришёл к выводу, что не автору (под таким именем автор вводит себя в повествование). А Иришке, перешедшей площадь на углу. В СССР, особенно в 20-30-е годы мужчины к женщине и девушке обращались – товарищ. – Площадь это – привокзальная. Девушки приехали в Ленинград вместе с повествователем (автором). Потому ему слышно, как они друг с другом прощаются и как им сообщает парень про убийство в Смольном (о котором в этом месте ещё читателю было б не известно, если б не приделанные курсивом перед рассказом слова публикатора {поступившего очень неправильно, втиснув эти слова перед текстом автора}). Девушки как-то умудрились вечером этого дня не знать, что убит Киров. Они легкомысленные, невнимательные. Повествователь их еле прощает: «Весёлые девушки! Ах, эти девушки…». А сам он, видимо, журналист («Стол завален газетами»), конечно же знает. Днём же было сообщение по радио:
«Как вдруг, как сейчас помню, по радио сообщили: «1 декабря 1934 года, в 16 часов 30 минут в здании Ленинградского Совета (бывший Смольный), от руки убийцы, подосланного врагами рабочего класса, погиб Секретарь Центрального Ленинградского Комитета ВКП(б) и Главный Председатель ЦИК Сергей Миронович Киров. Личность убийцы выясняется»» (
https://biography.wikireading.ru/239104).
Потому такая огорошенность в стиле рассказа, поданного с точки зрения повествователя, верного сталинца. Ибо сам Киров был сталинцем во внутрипартийной борьбе. Ибо повествователь места себе дома не находит от этого известия, а не из-за того, что измучила командировка:
«Четвёртая ночь на исходе... Автор приходит домой. Не снимая пальто, отяжелевшего от дождя, не зажигая лампы, садится к столу.
Это так бывает. Трезвый человек, шатаясь, ходит по комнате, не может найти дверей. Это бывает: ладонь приложишь к глазам, а глаза всё равно открыты, и это уже не зрение, а беспощадная память, для которой нет ни очереди, ни сна, от которой не уйти человеку, как от собственной тени, а тому, кто спокойно спит в эту ночь – позор!».
Дом его, видимо дача в пригороде. Потому ему не сидится (он даже не берёт трубку позвонившего телефона), и первый отрывок (весь рассказ из отрывков, разделённых пробельными строками) кончается словами: «В город, в город…». Пригородный поезд (потому короткий) с траурными лентами:
«Ленты крепа, как крылья чёрных птиц, хлопают на ветру. Искры над сеткой трубы… Недлинный состав – пять вагонов. Колёса гремят на стрелках. Дождь бьёт железные стены пустых тамбуров. Город».
Повествователь даже сидеть в вагоне не может, ехал в тамбуре, чтоб скорей соскочить по приезде.
Удивительно, что те две девушки так ничего и не заметили.
Повествователь-журналист настолько знает Кирова, что часть его мысленного монолога помечена сноской, что это:
«Из речи С. М. Кирова на объединённом пленуме Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б) 9 февраля 1933 года».
Ну ладно: он – партиец, ему естественно так личностно отнестись к убийству Кирова. Но почти весь рассказ наполнен примерами такого же отношения простых людей, очень, казалось бы, далёких от политики. Ан нет. Это было ещё время инерции Октябрьской революции и надежды на верность нового, выбранного Сталиным, курса на построение социализма в одной, отдельно взятой стране. Время массового энтузиазма. Время замечательнейших массовых советских песен.
Более того. Я скажу, что какая-то инерция сохранялась даже и в 1953 году, когда умер Сталин. И не только у меня, в семье которого (тогда только мама осталась) ничего не было известно о массовых политических сталинских репрессиях. И никто из соучеников этого не знал. Я настолько личностно воспринял смерть Сталина, что хотел ехать в Москву на его похороны. Лишь то, что мне было лишь 15 лет, и у меня не было никаких денег, а маму опытный сосед по коммунальной квартире убедил мне денег не давать, - лишь то меня остановило. И я был не исключение. Я, уже выросший из детского возраста и тогда не плакавший, - плакал. И, казалось, все вокруг плакали. Моя тётя, чудом избегнувшая репрессий, призналась мне впоследствии, что тоже плакала. – Была ещё инерция заблуждения, что мы строим самое передовое общество. При всех неладах с этим делом.
Наивный оптимизм был массовым явлением в 1934 году.
Передо мной в этой связи задача согласовать это со своей идеей-фикс, что художественно только то, что несёт следы подсознательного идеала автора, - согласовать с собственным выводом, что в «Паспортах»-то Сапир был художественным. Неужели в «Ленинградской ночи» он утратил художественность, став выражать знаемое – общенародное горе по смерти Кирова?
А что? Обычное дело. Писал-писал и спёкся. Писал, по сути, поперёк общественного мнения, не вполне даже это осознавая. И потому там, в «Паспортах», были неожиданности, эти следы подсознательного идеала. А тут… Эти недопонятности… Чего мечется по комнате, не снимая мокрого пальто, повествователь, чего не берёт трубку звонящего телефона, чего бросается в ночь опять ехать поездом, чего не удивляется дворник, чего повествователю досадно веселье Иришки и её подруги…
Это читателю недопонятно. В первом чтении. Если забыть про неавторский текст косым шрифтом перед началом повествования. Но автору-то при писании всё было понятно. – Иллюстрация сталинской мысли о всё нарастающем накале классовой борьбы по ходу строительства социализма (так называемого). Вот – уже аж Кирова убили.
Или всё-таки недопонятно. Налицо ж, наоборот, преобладание своих над чужими. Свои: автор (1), дворник дачного дома (2), парень, отвечающий Иришке (3), коммунисты в райкоме, которых райком не вызывал (4), женщина, закрывающая лицо (5), молчаливые люди (6), спрашивающий, что делать (7), комсомолец, разговаривающий по телефону (

, секретарь райкома, вздыхающий всем телом (9), большой и сильный человек в припадке (10), начальник цеха (11), написавший самодеятельный лозунг (12), дворник Матвей (13), человек, разогнавший людей в пивной (14), трамвайщики, останавливающие не там (15), негромко разговаривающие люди на улице (16), женщина с чёрной повязкой на рукаве (17), несвистящий на нарушение милиционер (18), огромная очередь покупающих газеты (19), продавец газет (20), два маляра в люльке (21, 22), дети, поправляющие учительницу (23, 24), рассказывающий про Мироныча (25), ударивший делопроизводителя (26), женщина в тёмной косынке (27), вагоновожатый (28), молчаливые колоны рабочих после работы (29), парень в рваном пальто (30), старик, очки в железной оправе (31), женщина с флагом Северной Верфи (32), чёрной рекой, от зари до зари люди (33) и мн. др. Чужие: женщина с телефоном Ч-60-07 (1), ленинградские извозчики, дворник, по-цыгански поющая женщина, кондукторша, маляр, выстреливший из пушки в Петропавловской крепости (2, 3, 4, 5, 6, 7), милиционер на лестничной площадке райкома (

, выпивающие в пивной (9), ироничный покупатель газеты (10), штатский с военной выправкой (11), учительница (12), делопроизводитель (13).
И, значит, мрак и раздрай повсеместный это не образ трагедии убийства Кирова (что плоско и нехудожественно), а образ этой идиотической идеи Сталина. Она – нота трагизма в идеале трагического героизма в построении нового общества. Которое вот-вот и построим.
И это не очевидно. Ни тогда, ни теперь.
Насколько неочевидно теперь, можно судить по совершенно противоположно духу рассказа косым шрифтом предварение:
«1 декабря 1934 года в коридоре Смольного, невдалеке от своего кабинета выстрелом в спину был убит С. М. Киров. Человек, близкий к Сталину, один из виднейших партийных и государственных деятелей того времени.
Убийца, Николаев – мелкий партийный деятель, неудачник и неврастеник.
Множество вопросов, которые породило это убийство, так и остались без ответа. Вскоре при нелепых обстоятельствах погиб Борисов, единственный личный охранник Кирова. Расстреляны следователи, допрашивавшие Николаева. Расстреляны те, кто их расстреливал… Арестованы и уже не вышли на свободу Зиновьев и Каменев. Начиналась эпоха Большого террора.
А всезнающий народ отозвался просто:
Эх, огурчики, помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике…».
Нет, определённо доказать, что трагический героизм был именно подсознательным идеалом у Сапира при сочинении этого рассказа, я не могу. Но всё-таки образное оспаривание идеи Сталина о нарастании со временем классовой борьбы достаточно неожиданная для того времени штука, чтоб подозревать это оспаривание рождённым непосредственно из подсознания. Ведь даже Троцкий, считая возможным перерождение сталинской партноманклатуры до того, что она возглавит реставрацию капитализма (что и произошло с Горбачёвым) было инобытием сталинской идеи. А противостоять Сапиру и Сталину, и Троцкому мыслимо, по-моему, только в подсознании.
А может, прав публикатор, что вещее «настроение страха, предчувствий бед, которые вот-вот нахлынут на них, передано автором»? Тоже ведь достаточно неожиданная штука. Я уже писал, насколько моя мать была не в курсе сталинских репрессий. Тогда Сапира надо считать реалистом. Реализм – это чуяние раньше других того социального, которое уже появилось на свете, но его ещё никто не чувствует.
На это у меня возражение методического плана (жаль только, что эта методика не общепринята).
Есть теория (см. Прокофьев. «Фёдор Иванович Шмит (1877-1941) и его теория прогрессивного циклического развития искусства» в альманахе «Советское искусствознание '80», второй выпуск, М., 1981), согласно которой стили (я бы сказал идеостили) искусства повторяются по спирали, превращаясь друг в друга плавно. Так реализм по той теории появляется после некоторого перелома от субъективности к объективности. И его, перелома, как-то не чувствуется при переходе от «Паспортов» к «Ленинградской ночи», которые (поданы оба с токи зрения персонажей) оба субъективны в своих оптимизмах (сверхисторическом и наивном). Тогда как реализм имеет отношение к историческому оптимизму (он доволен своей прозорливостью и трагизм и пессимизм {эти ночи там и там} это не его, его – мудрая отстранённость).